— Однако продолжайте. Эта сказка годится и для больших детей, — просит живописец.
Я снова в тупике. У сказки нет продолжения, вся ее соль уже преподнесена слушателям, но мои добрые соседи не поняли этого. Я пытаюсь импровизировать, авось дело пойдет. Говорю, говорю… но сказка не ладится, и я чувствую, что порю чушь. Компания перестает слушать, начинает разговаривать, чему я очень рад. Только Пепик слушает, а я глажу его по голове. Но надо же как-нибудь закончить сказку, а я уже начинаю запинаться. Вдруг мне приходит счастливая мысль. Я беру Пепика за руку и, словно только что заметив, говорю:
— Пепичек, смотри-ка, какие у тебя грязные руки.
Мальчик смотрит на свои руки.
— Нагнись, я тебе что-то скажу, — говорит он и шепчет мне на ухо: — Дай два крейцера, тогда вымою!
Я потихоньку вынимаю два крейцера и сую ему. Мальчик убегает в сад, где как раз появилась семилетняя дочка Семпра.
Я гляжу на дочь домохозяина, сидящую рядом со мной. Как она похожа на отца! Худое лицо, тонкие прозрачные руки, маленький подбородок, маленький носик, такой маленький, что, наверное, она даже не может ухватиться за него. Но этот носик не портит ее, личико у нее симпатичное, глаза черные; и голос звучит приятно. Я очень люблю черные глаза, женщины с голубыми глазами кажутся мне словно слепыми.
— Вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте, пан доктор…
— …Крумловский, — подсказывает дочь.
— Да, да, Отилия, я знаю. Пан доктор Крумловский.
— Мы уже говорили об этом, когда вы изволили навестить меня. Когда-то я играл на скрипке, но страшно давно.
Скрипку я даже держать не умею… но, слава богу, домовладелец не слушает меня. Его дочь наклоняется ко мне и грустно шепчет:
— Бедный папаша во второй половине дня всегда теряет память.
Тем временем папаша, поднявшись с места, говорит каким-то внезапно охрипшим голосом:
— Пойдем, Отилия, я хочу немного пройтись… А вы, пан доктор… пожалуйста, прочтите эту записку. — Он подает мне длинную белую бумажку, на которой написано: «Прошу извинить, что сегодня, из-за болезни горла, я говорю слишком тихо».
В этот момент к нам подходит Провазник. Он улыбается мне, но как-то иронически, и подает руку.
— Привет, пан доктор Кратохвил!
— Меня зовут Крумловский.
— Странно… Я думал, что всех докторов зовут Кратохвилами. Ха-ха-ха!
Смех у него сиплый и резкий. Я внимательно рассматриваю его.
— О чем вы тут беседовали! — продолжает он. — Как поживаете, пан Августа?
— Так себе. Почти нет работы.
— Ах, вот оно что! Однако ж, как ни встретишь вас на лестнице, всегда вы идете с новой картиной под мышкой. Вы, наверное, играючи пишете в день две картины.
Живописец самодовольно усмехается.
— Что верно, то верно. Пусть-ка попробует так работать кто-нибудь из этих «профессоров»…
— Вы могли бы рисовать портреты впрок, ха-ха-ха! Кстати говоря, портретист — это самая ненужная профессия в мире. Если бы на земле не было ни одного портретиста, физиономий все равно хватало бы, да еще каких странных… Почему вы не пишете в другом жанре?
Я бы с удовольствием посмеялся, сатира Провазника попадает в цель, но я знаю, что живописец растерян, — зачем мучить беднягу?
— Сперва я занимался историческими сюжетами, — пробормотал живописец. — Но это не давало дохода. Публика не понимает истории. Один священник как-то заказал мне картину «Проповедь капуцина в лагере Валленштейна», и я написал ее отлично, должен вам сказать. Но когда она была готова, священник не взял ее. Он, видите ли, хотел, чтобы на картине не было капуцина. Но какая же может быть проповедь капуцина без капуцина?! Известное дело, священник!.. Потом ратуша в Куцкове заказала мне портрет Жижки. Хлебнул я с ними горя! Послал им эскиз, так им не понравились сапоги. Велели мне справиться у пана Палацкого, соответствуют ли они той эпохе. Ну, что ж, Палацкий дал вполне положительный отзыв. Но в Куцкове был свой знаток по фамилии Малина, и он решил, что мой Жижка противоречит историческим данным. Долго я с ними тягался, и они мне написали, что ославят меня в газетах. Опасное дело — исторический жанр.
— Тогда займитесь жанровой живописью. Нарисуйте, например, как мастер чинит флейту пьяного флейтиста. Или сценку: «Мышь в женской школе». Мышь можно даже не рисовать, а только учениц, которые вместе с учительницей взобрались на парты. Вот где будет разнообразие испуганных лиц!
— Гм… Жанры я тоже писал. Одно полотно было у меня на выставке. Очень недурное. Тогда еще все подписи были по-немецки, и моя картинка называлась «Haeusliche arzenci» [32]— муж лежит в постели, а жена подходит к нему с горячей клизмой.
Читать дальше
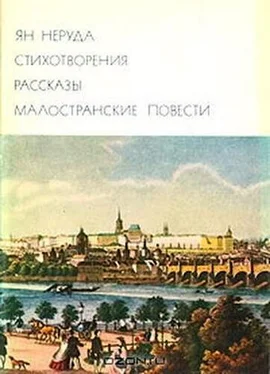


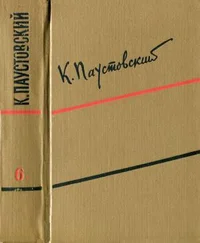






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

