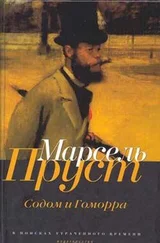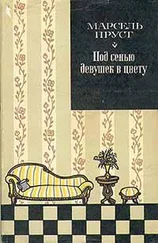Покуда бабушка, не обижаясь на то, что он слушает ее, не снимая шляпы и посвистывая, спрашивала: «А цены? Ох, дороговато для моих скромных средств», я ждал ее, сидя на банкетке и пытаясь думать о вечном; я силился эмигрировать в самые дальние области своей души, чтобы на поверхности моего тела не осталось ничего собственно моего, никаких признаков жизни; я, как животные, которые замирают и притворяются мертвыми, если их ранят, постарался ничего не чувствовать, чтобы не слишком страдать в этом месте: ведь у меня не было к нему никакой привычки, а потому меня еще больше задевало одновременное присутствие элегантной дамы, с чьей собачкой заигрывал директор в знак почтения к ее хозяйке, и юного щеголя с перышком на шляпе, вошедшего с вопросом «нет ли писем», и всех этих людей, для которых подниматься по ступенькам искусственного мрамора значило возвращаться домой. В то же время господа, явно не посвященные в искусство гостеприимства и, вероятно, именно поэтому облеченные титулом «администраторов по приему гостей», бросали на меня суровые взгляды, достойные Миноса, Эака и Радаманта [164] … суровые взгляды, достойные Миноса, Эака и Радаманта … — Здесь, на наш взгляд, Марсель перефразирует стихотворение в прозе Бодлера: «Иной, застенчивый до такой степени… что ему требуется собрать всю свою бедную волю, чтобы зайти в кафе или проследовать мимо билетной конторки в театре, где контролеры представляются ему облеченными могуществом Миноса, Эака и Радаманта…» («Негодный стекольщик»).
; дальше, за стеклянной перегородкой, люди сидели в читальном зале — для его описания мне пришлось бы выбирать у Данте поочередно краски, которыми он описывает Рай и Ад, смотря по тому, о чем я думал в этот момент — о блаженстве избранных, имеющих право там спокойно сидеть и читать, или об ужасе, что обрушится на меня, вздумай бабушка, нечувствительная к моим ощущениям, потребовать, чтобы я туда проник.
Потом мне стало еще более одиноко. Я признался бабушке, что мне не по себе и что, наверно, нам придется вернуться в Париж, и она не стала возражать, только сказала, что ей нужно сходить за покупками, которые пригодятся нам и если мы уедем, и если останемся (и все они, как я потом узнал, были предназначены мне, потому что кое-что нужное из моих вещей осталось у Франсуазы); тем временем я пошел бродить по улицам, где из-за толпы народу было душно, как в квартире, и увидел, что еще открыты парикмахерская и кондитерская перед памятником Дюге-Труэну [165] … перед памятником Дюге-Труэну … — Пруст переносит в выдуманный Бальбек статую корсара Рене Труэна, сьёра дю Ге (его называли также Дюге-Труэн, 1673–1736), которую он видел в Сен-Мало.
— там лакомились мороженым завсегдатаи. Памятник порадовал меня примерно так, как его изображение в иллюстрированном журнале порадовало бы больного, листающего журнал в ожидании своей очереди перед кабинетом хирурга. Я удивлялся, что есть на свете люди, настолько непохожие на меня: иначе непонятно, почему директор посоветовал мне развлечься этой прогулкой по городу, и неужели новая комната, эта камера пыток, может кому-то показаться «очаровательным местопребыванием», как было сказано в проспекте отеля, который, конечно, преувеличивал, но всё же обращался ко всем будущим клиентам и потакал их вкусам. Правда, чтобы привлечь постояльцев в Гранд-отель Бальбека, там ссылались не только на «восхитительную кухню» и «феерический вид на сад Казино», но и на «вердикт ее величества моды, каковой ни один благовоспитанный человек не может игнорировать под страхом прослыть профаном». Потребность в бабушкином присутствии еще подогревалась у меня страхом ее разочаровать. Она расстроится; если даже такое ничтожное утомление мне не по силам, значит нечего и мечтать, что путешествия вообще пойдут мне на пользу. Я решил дождаться ее в гостинице, и сам директор нажал для меня кнопку; тут ко мне, с проворством домовитой и ловкой пленницы-белки, спустился еще незнакомый мне персонаж под названием «лифт», ютившийся в самой высокой точке отеля, там, где в нормандской церкви был бы световой фонарь, и похожий не то на фотографа за стеклянной перегородкой, не то на органиста, притаившегося между перилами балкона и трубами своего инструмента. Потом он вновь заскользил вдоль колонны, увлекая меня за собой к своду коммерческого храма. На каждом этаже по обе стороны от лестницы, связывавшей этажи между собой, веером разбегались темные галереи; я увидел горничную, которая куда-то несла подушку. Я примерял к ее лицу, которого мне было не разглядеть в полумраке, маску, заимствованную из моих самых страстных снов, но в ее взгляде, обращенном ко мне, читал отвращение к моему ничтожеству. Тем временем, чтобы развеять смертную тоску, что навевал на меня беззвучный полет сквозь таинственную светотень, лишенную малейшей поэзии и освещенную единственным вертикальным рядом фонарей, которыми светились ватерклозеты, по одному на каждом этаже, я заговорил с юным органистом, виновником моего перемещения и товарищем по заточению, который продолжал тянуть рукоятки регистров и переключать трубы на своем инструменте. Я попросил прощения за то, что занимаю столько места и так его затрудняю, спросил, не мешаю ли я ему исполнять его обязанности; желая ему польстить и восхититься его виртуозностью, я выразил не любопытство даже, а живейший интерес к его искусству. Но он промолчал — не то пораженный вниманием к его работе, не то из уважения к этикету, из почтения к традиции, из послушания директору, а может, просто не расслышал, или чего-то опасался, или был туповат.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу