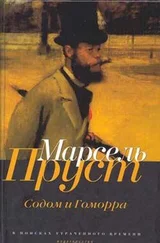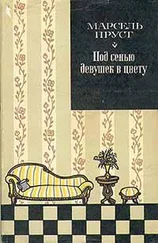— Но вам же плевать на бабушку, прохвост, правда?
— Что вы, сударь, я ее обожаю!
— Вы еще молоды, — сказал он мне ледяным тоном, отступив на шаг, — и вам следует усвоить две вещи: во-первых, воздерживайтесь от выражения слишком непосредственных чувств, потому что вас могут не так понять; во-вторых, не бросайтесь в бой очертя голову прежде, чем уразумеете смысл того, что вам говорят. Если бы вы приняли эти меры предосторожности, вы бы только что не попали впросак — и к этим дурацким якорям, вышитым на вашем купальном костюме, не добавили бы еще одной глупости. Я дал вам почитать книгу Берготта, теперь она мне нужна. Велите метрдотелю с идиотским именем, которое ему идет как корове седло, принести ее мне через час; надеюсь, он уже не спит. Полагаю, что, беседуя с вами вчера вечером, я поспешил с разговорами о соблазнах молодости; лучше бы я предупредил вас о ее легкомыслии, непоследовательности и непонятливости, это было бы вам куда более кстати. Надеюсь, что мой холодный душ принесет вам не меньше пользы, чем морская ванна. Но не стойте столбом, простудитесь. Всего хорошего.
Надо думать, потом он пожалел о сказанном, потому что спустя некоторое время я получил — в сафьяновом переплете, в который была вделана медная пластинка с выгравированным на ней букетиком незабудок, — ту самую книгу, которую он мне давал почитать и которую я ему вернул, правда не через Эме, который «отсутствовал», а через лифтера.
После отъезда г-на де Шарлюса мы с Робером могли наконец пойти обедать к Блокам. И я понял на этом маленьком празднике, что истории, которые наш товарищ рассказывал, несправедливо считая их забавными, принадлежали на самом деле г-ну Блоку-отцу, а «ужасно занятный» человек всякий раз оказывался другом г-на Блока, который и объявил его «занятным». В детстве мы восхищаемся некоторыми людьми — отцом за то, что он остроумнее других членов семьи, учителем за то, что открывает нам метафизику, которая придает ему очарование в наших глазах, товарищем, искушенным больше, чем мы (таким был для меня Блок), за то, что презирает Мюссе и его «Надежду на Бога», когда мы всё это еще любим, а к тому времени, когда мы доберемся до папаши Леконта или до Клоделя, будет восторгаться только такими строками:
В Сен-Блезе, на острове Цвекка,
Раздолье для человека!
Добавляя к ним:
Славное местечко Падуя,
Мудрых правоведов радуя…
…Пробегает топателла
В черном домино.
А из всех «Ночей» сохранит в памяти только:
…и в атлантическом порту,
и в Лидо, на траве могильной,
где Адриатика бессильно
лобзает хладную плиту… [224] … презирает Мюссе и его «Надежду на Бога»… — лобзает хладную плиту … — Как мы видим, герои романа сперва увлекаются высоким романтизмом, потом влюбляются в совершенство парнасской поэзии, а потом возвращаются к Мюссе, но уже к его легкой поэзии. «Надежда на Бога» (1938) Альфреда де Мюссе входит в его сборник «Новые стихотворения», это возвышенная философская поэзия. «Песня» (1834) из того же сборника Мюссе, напротив, стихотворение шутливое, с элементами словесной игры, равно как и процитированное дальше «Брату, на возвращение из Италии» (1844). Между прочим, в статье «О стиле Флобера» (1920) Пруст замечает, что жестоко восхищаться этими легкомысленными стихотворениями Мюссе, создавшего образцы высокой лирики. Цвекка на самом деле — это Джудекка, остров к югу от Венеции, где расположен городок Сан-Бьяджо (Сен-Блез — офранцуженная форма этого имени). Приведем комментарий Поля де Мюссе, старшего брата поэта: «Гризетки в Катане кутаются в своего рода домино черного шелка. Это одеяние называют „топпа“, а тех, кто его носит, — „топпателла“». Напоследок Пруст цитирует еще одно возвышенное стихотворение Мюссе, «Декабрьская ночь» (1835), другой образец «высокого романтизма». Вот как звучит этот фрагмент в переводе В. Набокова: …и в Генуе, в садах лимонных, в Вевэ, меж яблоней зеленых, и в атлантическом порту, и в Лидо, на траве могильной, где Адриатика бессильно лобзает хладную плиту…
Всё так: когда мы доверчиво восхищаемся кем-нибудь, мы выхватываем и цитируем из него всякие пустяки, которые сурово отвергли бы, если бы судили о них непредвзято; точно так же писатель иной раз вставляет в роман «остроты» и персонажей за то, что они подлинные, даром что в живой ткани романа они оказываются бесполезными и банальными. Портреты, которые создает Сен-Симон, превосходны, хотя сам он ими едва ли восхищался, а вот высказывания его знакомых остроумцев, казавшиеся ему прелестными, в его передаче кажутся нам плоскими или вообще ускользают от понимания. Он бы погнушался сам сочинять остроты, которые в устах г-жи де Корнюэль или Людовика XIV [225] … остроты, которые в устах г-жи де Корнюэль или Людовика XIV … — Какую именно остроту Людовика XIV в передаче Сен-Симона имеет в виду Пруст, сказать трудно; что же касается г-жи Корнюэль, то Сен-Симон рассказывает о том, как эта старая дама за два дня до смерти узнала от своего друга г-на де Субиза о его недавнем блистательном бракосочетании и сказала: «О, месье… более удачного брака не будет заключено в ближайшие шестьдесят или восемьдесят лет!» (Сен-Симон. Мемуары. 1601–1701. М., 2007. С. 138. Перевод М. Добродеевой). В самом деле, сегодня трудно плениться этой остротой, как в XVII в.
представляются ему необыкновенно тонкими или колоритными; то же самое замечаем и у многих других; истолковывать это можно по-разному, мы же ограничимся тем, что отметим: в те минуты, когда мы «наблюдаем», мы бываем гораздо глупее, чем когда творим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу