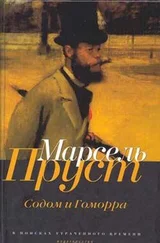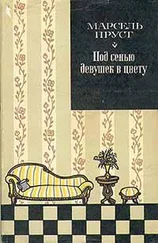Раз уж он отказывался что-либо объяснить, я попытался найти ответ сам, но колебался между несколькими возможными объяснениями, из которых ни одно меня не устраивало. Может быть, он забыл, может быть, утром я его неправильно понял… А скорее всего, он из гордыни не желал признаваться, что сам домогался общества людей, которых презирает, и предпочел сделать вид, что они явились по собственному почину. Но если он нас презирает, зачем же он так хотел, чтобы мы пришли, вернее, чтобы моя бабушка пришла, потому что мне он за весь вечер не сказал ни слова и говорил только с ней. Он вел самую оживленную беседу с бабушкой и г-жой де Вильпаризи, словно прятался за ними, словно отсиживался в глубине ложи, и только изредка его пронзительный взгляд испытующе задевал мое лицо с таким серьезным, озабоченным видом, словно у меня не лицо, а неразборчивая рукопись.
Вероятно, если бы не эти глаза, лицо г-на де Шарлюса было бы похоже на множество других красивых лиц. И когда позже Сен-Лу, говоря о других Германтах, заметил: «Да уж конечно, не видно в них этой породы, не то что в моем дяде Паламеде, вот уж кто вельможа до мозга костей», подтверждая тем самым, что порода, аристократическая исключительность не содержат ничего таинственного или нового, а складываются из определенных элементов, которые я узнавал без труда и без особого волнения, — одна из моих иллюзий бесследно рассеялась. Но напрасно г-н де Шарлюс придавал наглухо замкнутое выражение своему лицу, которому тонкий слой пудры сообщал некую театральность: глаза у него были как щель в стене, как бойница, которую он не мог замуровать, и сквозь эту бойницу, смотря по тому, где вы по отношению к нему находились, вы чувствовали внезапно, как на вас падает отблеск какого-то внутреннего орудия, в котором было нечто устрашающее даже для того, кто обладает этим орудием, не вполне им управляя, зная, что оно ненадежно и в любую минуту готово взорваться; и подозрительное, вечно беспокойное выражение его глаз, и от этого огромная усталость, синевой расползавшаяся вокруг них чуть не на половину лица, такого правильного и соразмерного, — всё это наводило на мысль о могущественном человеке, сознающем, что над ним нависла опасность, скрывающемся под чужим именем и в чужом платье, а может быть, просто об опасном человеке трагической судьбы. Мне хотелось догадаться, что это за секрет, которого нет в других людях, — секрет, из-за которого взгляд г-на де Шарлюса показался мне загадочным еще утром у казино. Но теперь, столько зная о его семье, я уже не мог думать, что он вор, а послушав его разговор, не предполагал в нем сумасшедшего. Если со мной он был так холоден, а с бабушкой так любезен, дело тут было, возможно, не в личной антипатии, потому что с женщинами он и вообще держался очень благожелательно, об их недостатках упоминал обычно с великой снисходительностью, а вот о мужчинах, особенно молодых, отзывался иной раз с такой непримиримой ненавистью, которая напоминала ярость женоненавистника по отношению к слабому полу. О двух или трех «альфонсах», родственниках или близких знакомых Сен-Лу, которых тот случайно помянул в разговоре, г-н де Шарлюс сказал с какой-то даже свирепостью, разительно отличавшейся от его обычного ледяного тона: «мелкие пакостники». Как я понял, главным образом он ставил в вину нынешним молодым людям их женоподобность. «Ни дать ни взять женщины», — с презрением говорил он. Но кем надо было быть, чтобы не казаться ему женоподобным — ему, который никого не признавал достаточно деятельным и мужественным? Сам-то он во время своих пеших путешествий, разгорячившись после многочасовой ходьбы, бросался в ледяную реку. Его возмущало даже, когда мужчина носил одно-единственное кольцо.
Но при всем своем преклонении перед мужественностью он был наделен удивительной тонкостью и чуткостью. Г-же де Вильпаризи, попросившей его описать для бабушки зáмок, где гостила г-жа де Севинье, и добавившей, что ей кажется несколько литературным отчаяние, в которое та приходит, расставшись со скучной г-жой де Гриньян, он возразил:
— Наоборот, это, по-моему, очень правдиво. Вообще, в ту эпоху подобные чувства были очень понятны. Житель Мономотапа у Лафонтена, который бежит проведать друга, привидевшегося ему во сне слегка печальным, голубь, для которого самое большое горе — это разлука с другим голубем [218] Житель Мономотапа у Лафонтена… разлука с другим голубем … — О друзьях из Мономотапа (государства Южной Африки на месте нынешних Зимбабве и Мозамбика) говорится в басне Лафонтена «Два друга» (VIII, XI), о разлуке голубей — в его же басне «Два голубя» (IX, II).
, быть может, кажутся вам, тетушка, таким же преувеличением, как то, что г-жа де Севинье не может дождаться, когда она останется наедине с дочерью. И это такое счастье, что, уехав, она говорит: «От этой разлуки мне так больно, будто болит не душа, а тело. В разлуке мы времени не жалеем. Мы хотим, чтобы поскорее наступил миг, к которому мы стремимся» [219] …г-жа де Севинье… мы стремимся. — Шарлюс вольно цитирует по памяти письма г-жи де Севинье к дочери от 18 февраля 1671 г. и от 10 января 1689 г.
. Бабушка была в восторге, слыша, что он рассуждает о «Письмах» точь-в-точь как она. Ее удивляло, что мужчина так хорошо их понимает. Она чувствовала в г-не де Шарлюсе женскую деликатность и чуткость. Позже, оставшись с ней одни, мы о нем заговорили и решили, что он, вероятно, испытал сильное влияние женщины, возможно матери, а может быть, и дочери, если у него есть дети. «Или любовницы», — подумал я, вспомнив о Сен-Лу, на которого, как мне казалось, очень влияла его подруга, что давало мне представление о том, насколько женщины облагораживают мужчин, с которыми живут.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу