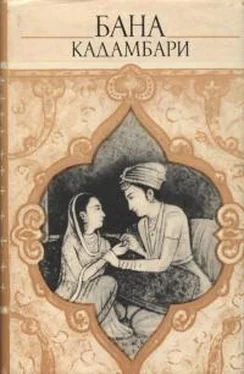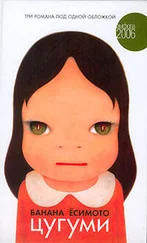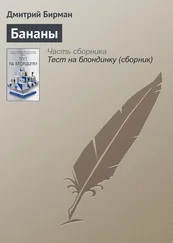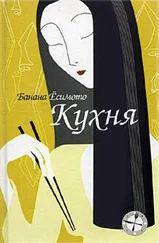В последнем случае противоречивость сравнений, вероятно, была оправдана в глазах Баны и его читателей использованием игры слов (шлеши), как та же шлеша, как мы видели несколько раньше, оправдывала сравнение жителей Удджайини, «прилежных в изучении вед» ( *), то есть, казалось бы, приверженцев брахманизма, с последователями Будды и Джины, то есть учений, несовместимых с брахманизмом. Однако и не прибегая к шлеше, Бана готов был сравнивать что угодно и с чем угодно, не заботясь о логической связи сравнений. Отсюда, например, в одном и том же описании пыль может быть уподоблена белому снегу, желтым цветам и черному покрывалу, темной ночи и хмурому дню, стягу победы и стаду слонов, подземному царству и океану, таким умозрительным понятиям, как темный сполох сознания земли, сон, прохлада и т. п. [134]
Подлинным объяснением нелогичности сравнений Баны служит то обстоятельство, что санскритская поэтика (в отличие, скажем, от поэтики античной) требовала не изобразительности описания и, в частности, сравнений, а выразительности. Сравнения Баны кажутся случайными и противоречивыми тогда, когда требуешь от них того, чему они не предназначены — правдоподобия и живописности. Бана же стремится сделать каждое сравнение, как и любую другую аланкару, убедительными поэтической логикой собственного строения, самодовлеюще ценными, а если соединяет их в серии, то добивается не пластического эффекта, не целостности зрительного впечатления, а прежде всего эмоционального воздействия.
Выражение эмоции — расы, которому санскритская поэтика уделяла первостепенное значение, в «Кадамбари» становится функцией описаний, состоящих в основном из аланкар. На важную роль аланкар в возбуждении расы указывал в «Дхваньялоке» Анандавардхана: «Ведь расы привносятся теми или иными выражаемыми и передающими их выражениями. А что такое метафора (рупака) и другие украшения, как не особые выражаемые, освещающие эти ‹расы›». И тут же в качестве примера украшений, «которые, соревнуясь друг с другом, спешат к искусному поэту, чей ум сосредоточен на расе», Анандавардхана приводит «то место в „Кадамбари“, где описывается Кадамбари» [ДЛ, с. 86—87].
Искусство Баны в использовании аланкар, проявляющих расу, высоко ценилось в индийской традиции. Мы уже цитировали посвященные Бане стихи Джаядевы и Говардханы. К ним можно добавить стихи теоретика поэзии XIII века Дхармадасы Сури, составленные, кстати говоря, как и у Джаядевы, и у Гавардханы, с помощью шлеши — одной из излюбленных Баной фигур: «Обладающая прекрасным голосом (или: звучанием), сложением (или: слогом), членами (или: словами), полная страстей (или: рас) и чувств (или: бхав), она радует сердца ‹всех› в мире. Кто это? Девушка? Нет, нет! Это катха сладостного Баны». А поэт Кавираджа (XII в.) в поэме «Рагхавапандавия» восклицает: «Субандху, Бана и Кавираджа (т. е. сам автор поэмы. — П. Г. ) — вот три искусника гнутой речи ‹вакрокти›. Четвертого такого нет!» [135]
Итак, не сюжет, не характеры, не «способы отражения» жизни, которые, как мы говорили, в «Кадамбари» условны и формализованы, а особенности стиля составляют главную ценность романа Баны и в его глазах, и в глазах его индийских читателей. Возможности стиля он реализует в первую очередь в своих описаниях, где доминируют риторические фигуры — аланкары. И в самой технике описаний, их грамматическом и поэтическом строе, в специфике конструирования и соположения аланкар проявляется индивидуальное мастерство Баны-стилиста, его собственные инициатива и изобретательность, но инициатива и изобретательность в рамках того канона, той «поэтики слова», в которой творил средневековый санскритский автор.
*
Поэтика слова или поэтика стиля — ведущие категории литературной теории средневековья и вместе с тем условные понятия, характеризующие доминирующую тенденцию развития средневековых литератур [136]. В исследованиях, посвященных классическим восточным литературам, стало своего рода общим местом утверждение о свойственной им стилистической изощренности. М. Винтерниц с сожалением отмечает в санскритской литературе «больший упор на форму, чем на содержание» [137]. О примате формы над содержанием в классической арабской поэзии теоретической поэтике писали многие арабисты [138]. По мнению современной исследовательницы средневековой японской литературы, в ней «особое значение приобретает форма высказывания, возникает столь характерная для средневековых литератур эстетика формы» [139]. О «гипертрофии формы» в средневековой поэзии, о «характерном для средневековой письменной литературы формализме и одновременно о ее так называемом вербализме, то есть стремлении использовать все возможности слова», — пишет М. И. Стеблин-Каменский [140].
Читать дальше