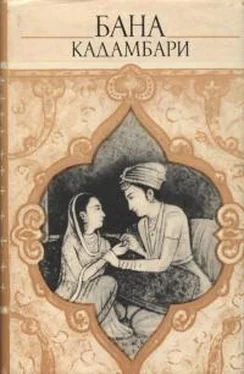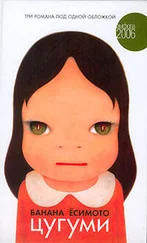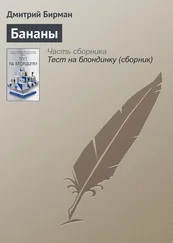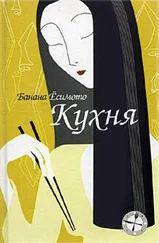Так же, как и в отношении романов, незаконченность перечисленных выше текстов каждый раз объясняется специалистами либо неполнотой рукописей, либо внезапной смертью автора, либо характером его художественного замысла и условий создания произведения. Но при этом фактически оставляется без внимания, во-первых, удивительное обилие не доведенных до конца сюжета сочинений в санскритской литературе, а во-вторых, то, что все они принадлежат именно к эпическим, а, скажем, не к лирическим или драматическим жанрам. Что касается лирических жанров, то здесь положение особое: они, как правило, бессюжетны, слагаются из не зависимых друг от друга строф, и текстологическую проблему составляет не их незавершенность, а вариативность. Драма же дает совершенно иную картину, чем нарративные жанры: подавляющее большинство пьес, за исключением нескольких второстепенных, сохранились полностью. Дело, по-видимому, в том, что санскритская драма в своем генезисе тесно была связана с ритуалом, и последовательность ее композиции, завершенность сюжета изначально предопределялись строгой организацией ритуала. Отсюда в санскритской поэтике, достаточно четко отделявшей драму от иных родов поэзии и прозы, пьесы классифицируются по их протяженности (от одного до десяти актов в разных их видах), отсюда та тщательность, с которой разрабатываются вопросы развития и законченности драматического сюжета, в котором предусматривались последовательность его мотивов (артхапракрити), связей (сандхи) и стадий (авастха) — от начала действия и до его конца, «обретения плода» (phalayoga).
Принципиально иначе трактовали поэтики жанры эпической поэмы (махакавьи) и романа (катха и акхьяика). Помимо того что их сюжет должен быть заимствован из традиции, излагаться в песнях или главах и включать определенные топосы, в поэтиках, по существу, ничего не говорилось об его развитии. Рекомендовалось несколько способов начать произведение, но не было установленных форм его концовки. Все критические оценки того или иного автора определялись, как мы знаем, его мастерством в описаниях, употреблении аланкар, манифестации расы, но отнюдь не в трактовке темы или сюжета.
Соответственно для средневекового индийского поэта и прозаика сюжет (в большинстве случаев традиционный и хорошо известный) был, по сути, предлогом для проявления его искусности в стиле, в способе выражения, от которого, по рассуждению Раджашекхары, «зависит совершенство или несовершенство поэзии» [КМ, с. 46]. Работая в русле поэтики слова, санскритский автор мало занят логикой развития сюжета, последовательностью и полнотой раскрытия темы, но основное внимание уделяет изобразительным средствам своего произведения и их эмоциональному воздействию. Поэтому если поэма или роман не завершены, то не завершены они скорее с точки зрения наших эстетических критериев, а не по критериям средневековых индийских писателей и современных им критиков. Само представление о законченности произведения связывалось тогда не столько с содержанием или сюжетом, сколько со стилистической гармонией. И даже если мы сталкиваемся, как в случае с «Кадамбари», с последующим завершением текста, то вызвано это скорее всего не желанием удовлетворить любопытство читателя и восполнить недостающие звенья сюжета (и так ему известные), а попыткой вступить в состязание со своим предшественником в стиле и слоге на им же самим избранном материале. То, что Бана не завершил ни «Кадамбари», ни «Харшачариту», не мешало индийской традиции воспринимать его романы как целостные и даже образцовые в художественном отношении сочинения.
Остается добавить, что сходная ситуация обнаруживается и в других литературах, в которых господствует поэтика слова, в частности в средневековой европейской литературе, поскольку, по словам крупнейшего современного ее исследователя П. Зюмтора, «средневековый текст, по существу, является стилем, а вербальная и ритмическая организация текста — важнейшим признаком его литературности» [147]. Среди незаконченных больших эпических сочинений европейского средневековья назовем хотя бы два из пяти романов Кретьена де Труа: «Ланселот» (продолженный Джофруа де Ланьи) и «Персеваль» (имеющий четыре продолжения общим счетом в 60 000 стихов), поэмы о Тристане Тома и Беруля, «Роман о Розе» (не законченный Гильомом де Лоррисом и дополненный Жаком де Менем), трилогию о Граале Роберта де Борона, «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, «Тристана и Изольду» Готфрида Страсбургского и др. Показательна в том же плане и тенденция к циклизации и объединению текстов, делающая неустойчивыми их границы, таких, например, как романы артуровской темы, песни о Гильоме Оранжском, поэмы о Лисе Ренаре и т. п. [148]
Читать дальше