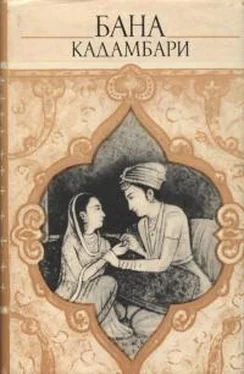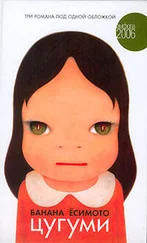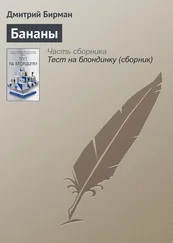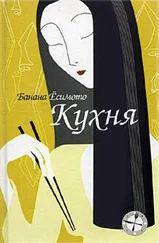Сравнения в романе обычно прямо выражены, указывают субъект и объект сравнения и общие их свойства. Но есть (и в достаточно большом количестве) сравнения скрытые, требующие догадки, домысливания со стороны читателя. Так, в санскритской поэзии общепринято сравнение месяца и ночи с возлюбленным и возлюбленной. В той же «Кадамбари» однажды мы, например, читаем: «Он (месяц. — П. Г. ) словно бы нес в виде пятна на груди ночь — свою возлюбленную» ( *). Но в другом месте говорится: «Понемногу волны лунного света высветлили лицо ночи, как если бы при виде месяца она раскрыла в нежной улыбке уста и озарила себя блеском своих зубов» ( *). Здесь уже сравнение ночи с возлюбленной месяца выражено имплицитно, хотя оно и составляет конечный смысл высказывания и основание для заключенного в нем олицетворения природного явления. Такого рода сравнения принадлежат к высоко чтимой в индийской традиции сфере дхвани (поэзии со скрытым смыслом), в которой многие теоретики, начиная с Анандавардханы, видели «душу поэзии» [121].
В «Кадамбари» встречаются одиночные сравнения, но гораздо чаще они соединяются в более или менее длинные цепочки, такие, как, например, цепочка сравнений-метафор в описании богини царской славы Лакшми: «…она болотная заводь, взращивающая ядовитые лианы желаний, охотничья дудка, заманивающая ланей чувств в силки, облако дыма, пятнающее алтарь добродетели, мягкое ложе для долгого сна заблуждений, верное убежище для пишачей гордыни, слепота, поражающая глаза закона, знамя войска нечестивых, река, полная крокодилов гнева, вино на разнузданном пиршестве похоти, музыка для танца высокомерия, нора для змей алчности, палка, бьющая по благоразумию, засуха для посевов добронравия, плодородная почва для чертополоха нетерпимости, пролог к драме злодеяний, вымпел на слоне страсти, плаха для добрых помыслов, пасть Раху для луны долга» ( *).
Еще чаще эти цепочки выстраиваются с помощью союза «или» (vā): «Дворец ‹…› казался особой планетой, населенной одними женщинами, или новым — но без мужчин — творением Брахмы, или никем дотоле не виданным женским островом, или воплощением пятой, женской, юги, или чудесным изделием Праджапати, возненавидевшего мужчин, или необъятным хранилищем женщин, способным в течение многих кальп восполнять в них нужду» ( *).
Тематически большинство сравнений в «Кадамбари» связано с природными явлениями, реальными или воображаемыми вещными объектами, но также значительная их часть почерпнута из индуистской мифологии.
Иногда достаточно краткой отсылки к мифологическому персонажу и какому-нибудь его атрибуту: «Как Вишну, он (Шудрака. — П. Г. ) был отмечен знаками раковины и диска; как Шива, победил бога любви; как Сканда, владел неудержимым копьем; как рожденный из лотоса Брахма, царил над озером белых гусей-государей; как Океан, хранил несметные сокровища; как поток Ганги, следовал благочестивым путем Бхагиратхи; как Солнце, сиял каждый день; как Меру, укрывал в своей тени все живое; как Слон, покровитель сторон света, расточал своей рукой-хоботом бесчисленные дары» ( *).
Иногда отсылка более пространна и касается не столько персонажа, сколько того или иного мифологического сюжета: «Она (Махашвета. — П. Г. ) выглядела олицетворением жертвоприношения Дакши, которым тот хотел умилостивить Шиву, дабы не быть схваченным за волосы его слугами; или воплощением Рати, которая взяла на себя обет почитания Хары ради воскрешения Маданы; или богиней Молочного океана, которая по праву давней дружбы пришла взглянуть на месяц, венчающий голову Шивы…» и т. д. ( *).
Особое место среди сравнений «Кадамбари» занимают так называемые «ученые» сравнения. Согласно требованиям санскритской поэтики хороший поэт должен обладать тремя качествами: воображением, или талантом (пратибха, шакти), практическим навыком (абхьяса, абхи-йога) и ученостью, культурой (вьютпатти, шрута). В понятие учености обычно входят знания грамматики, философии, науки политики, различных искусств, поэтики и т. п. Санскритский поэт склонен в своих сочинениях демонстрировать свою ученость, и Бана не является здесь исключением. Делает он это разными способами. Иногда достаточно прямо (см. рассуждения Шуканасы о сущности царской власти, многочисленные мифологические аллюзии и т. п.), иногда более изысканно: выбирая, в частности, в качестве объектов сравнения «ученые» или абстрактные понятия и оправдывая их неожиданное появление искусной игрой слов.
Читать дальше