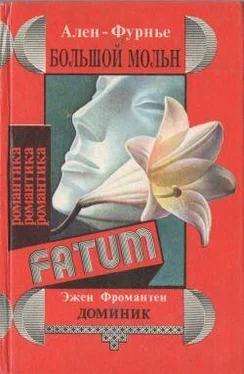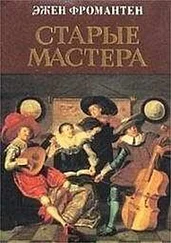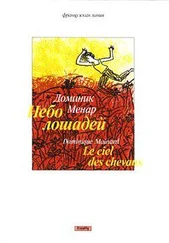В десять лет я был такой же, как все дети в Вильнёве: я знал столько, сколько они, немногим меньше, чем их родители; но было между ними и мною одно различие, сначала неприметное, но которое потом вдруг стало явным: дело в том, что уже тогда окружающий мир, его явления, одни и те же что для меня, что для них, у меня вызывали ощущения, которые им, по-видимому, были совершенно чужды. Так, например, когда я начинаю припоминать, я убеждаюсь, что в ловле птиц меня больше всего привлекало совсем не удовольствие делать силки, ставить их под кустами и подстерегать добычу, а что-то другое, и вот доказательство: если в памяти моей и остался сколько-нибудь живой след от долгих часов, которые провел я, лежа в засаде, то это – четкое зрительное воспоминание о том или ином месте, точное представление о времени года и времени суток, даже эхо каких-то звуков, все еще мне слышных. Может статься, вам это покажется ребячеством, но я до сих пор помню, что тридцать пять лет тому назад, когда я вечером осматривал ловушки, расставленные на свежевспаханном поле, стояла такая-то погода, ветер дул оттуда-то, или что было тихо, небо было серое, сентябрьские горлицы летели над полями, рассекая воздух с резким свистом, а на окрестных холмах стояли ветряные мельницы, с крыльев которых сняли парусину, и ждали ветра, а ветра не было. Сам не знаю, как могла моя память удержать столь незначительные подробности, точно отметив не только год, но даже, может быть, день, и удержать их настолько прочно, что им нашлось место в рассказе человека, более чем немолодого; но если я остановился на этом воспоминании, одном из тысячи прочих, то лишь затем, чтоб показать вам, что мое физическое бытие уже оставляло след в моем сознании и во мне развивалась какая-то особая память, весьма мало чувствительная к фактам, но обладавшая своеобразной способностью вбирать впечатления.
Не было сомнений – особенно для тех, кто озаботился бы моим будущим, – что такого рода воспитание, здоровое, как принято считать, никуда не годилось. Как беззаботно мне ни жилось, сколько ни было у меня друзей из числа деревенских мальчишек, с которыми я был на ты и на равных, в сущности я был одинок, одинок из-за своего происхождения, одинок из-за своего положения, и мое настоящее было в бесчисленных противоречиях с моим будущим. Я сердечно привязывался к людям, которые годились мне в слуги, не в друзья; сам того не замечая, бог весть как, но прочно прирастал я к местам, которые мне следовало покинуть, и покинуть как можно скорее; наконец, я приобретал привычки, способствовавшие лишь тому, чтобы из меня получился тот неопределенный персонаж, с которым вы позже познакомитесь, полукрестьянин, полудилетант; я мог быть то одним из них, то другим, то обоими вместе, но ни одному из них никогда не удавалось полностью вытеснить другого.
Как я вам уже говорил, невежество мое не знало границ, и тетушка это заметила; она поспешила выписать в Осиновую Рощу гувернера, молодого помощника учителя из Ормессонского коллежа. То был человек ума ясного и точного, честных и строгих правил; он был начитан, обо всем имел свое суждение, действовал с решительностью, но лишь обдумав все стороны предстоящего поступка; был весьма практичен и, разумеется, весьма честолюбив. Я не знал человека, который вступал бы в жизнь с меньшим количеством иллюзий и большим хладнокровием, который при столь явной скудости возможностей смотрел бы на будущее с большей твердостью. Взгляд у него был открытый, движения свободные, речь четкая; приятности, как внешней, так и внутренней, ему хватало только на то, чтобы не выделяться среди прочих. Человек с подобным характером, столкнувшись с моим, столь с ним несхожим, мог бы причинить мне множество страданий; но я должен прибавить, что истинная душевная доброта сочеталась в нем с прямотою чувств и неуклонно справедливым умом. Типической особенностью этой натуры, односторонней и тем не менее без явных изъянов, было преобладание волевых качеств, заменявших недостающие способности, и умение восполнить самое себя, так что нельзя было заподозрить ни малейшего пробела. С виду он казался почти тридцатилетним, хотя на самом деле ему было всего лишь двадцать четыре года. Имя, данное ему при крещении, было Огюстен; покуда я буду называть его только этим именем.
С его переездом к нам жизнь моя изменилась, в том смысле хотя бы, что разделилась на две части. Мне не пришлось отказываться от прежних привычек, но я должен был обзавестись новыми. У меня появились книги, тетради, часы, отведенные для занятий; моя склонность к забавам, позволенным в часы досуга, стала оттого еще живее, и по мере того как потребность в развлечениях увеличивалась, во мне все сильней сказывалась черта, которую я назвал бы страстной любовью к деревенской жизни.
Читать дальше