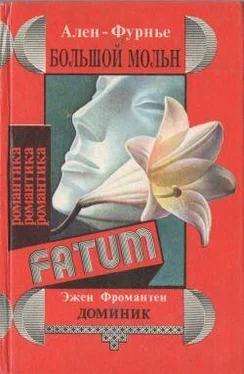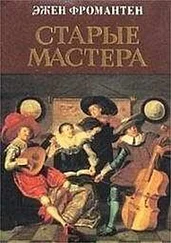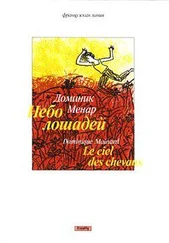То, что я собираюсь рассказать вам о себе, вряд ли значительно и могло бы вместиться в несколько слов: сельский житель, который ненадолго расстается с родным селением, сочинитель, недовольный своими творениями и подавляющий в себе манию сочинительства, и кровля отчего дома, фигурирующая как в начале, так и в конце истории. Столь скучное резюме да известная вам банальная развязка – пожалуй, самое лучшее, что есть в этой истории по части морали, и, верно, самое интересное, что есть в ней по части фабулы. Все прочее ни для кого не поучительно и способно взволновать лишь мою память. Я не делаю тайны из своего прошлого, поверьте; но стараюсь говорить о нем как можно реже – на то есть свои причины, не имеющие ничего общего с желанием казаться романтичней, чем я есть на самом деле.
Из нескольких лиц, которые имеют касательство к этой истории и о которых я буду вам рассказывать почти столько же, сколько о себе самом, один – старый друг; трудно подобрать для него определение, еще труднее судить о нем без горечи: вы только что читали его прощальное траурное письмо. Никогда не стал бы он пускаться в объяснения по поводу жизни, которую прожил и которой не мог быть доволен. Включить ее в эти воспоминания – значит в какой-то степени оправдать ее. У второго из моих персонажей нет никаких оснований умалчивать о своей жизни. По самому роду своей деятельности он – лицо публичное: вы его знаете, либо вам, может статься, доведется с ним познакомиться, и я не думаю, что хоть в какой-то степени умалю его достоинства, поведав вам о скромном начале его пути. Что же касается третьей особы, знакомство с которой оказывало живейшее влияние на мою молодость, то, волею обстоятельств, теперь ей ничто не грозит, ничто не омрачит ее счастья, ничто не напомнит о прошлом, и ей нет причин страшиться сходства меж собственными воспоминаниями и воспоминаниями того, кто расскажет вам о ней.
Могу сказать, что семьи у меня не было, и лишь теперь, когда у меня есть дети, я узнал, как нежны и надежны узы, которых я был лишен в их возрасте. Мать моя едва смогла выкормить меня и умерла. Отец прожил еще несколько лет, но был настолько слаб здоровьем, что я перестал ощущать его присутствие задолго до того, как его потерял, и он умер для меня гораздо раньше, чем наступила действительная его кончина, так что в тот день, когда он угас и я остался один и в трауре, я не почувствовал никакой существенной перемены, которая отозвалась бы во мне болью. Смысл слова «сирота», которое все вокруг произносили таким тоном, как будто в нем было что-то роковое, представлялся мне весьма смутно, и только по слезам наших слуг я понимал, что меня надобно жалеть.
Я вырос среди этих добрых людей и под присмотром одной из сестер моего отца, госпожи де Сейсак; вначале она опекала меня издалека, но позже, когда попечения о моем имуществе и воспитании настоятельно потребовали ее присутствия, перебралась в Осиновую Рощу. Во мне она нашла юного дикаря, неотесанного и вполне невежественного; подчинить меня было легко, убедить труднее, я был бродяжкой в самом точном смысле слова, не ведал, что такое труд и правила поведения, и когда в первый раз услышал разговоры о занятиях и распределении времени, разинул рот от удивления, обнаружив, что жизнь отнюдь не сводится к блаженной беготне по полям. До той поры ничего другого я не делал. Последние мои воспоминания об отце были таковы: в редкие часы, когда болезнь, подтачивавшая его силы, давала ему небольшую передышку, он выходил из дому, брел к ограде парка и в солнечную послеполуденную пору прогуливался там, опираясь на толстую трость и ступая медленно-медленно, так что казался мне совсем стариком. Я тем временем носился по полям и ставил силки для птиц. Другого примера у меня не было, и я полагал, что мое времяпрепровождение – почти точный сколок с отцовского, с небольшою только разницей. Что же до товарищей моих игр, это были дети соседних крестьян, либо слишком ленивые, чтобы ходить в школу, либо слишком юные, чтобы работать в поле; и от них я выучился смотреть на будущее с величайшей беспечностью. С ними прошел я единственную школу, которая была мне по душе, единственный курс наук, который я принял без бунта, и, заметьте, единственный, которому суждено было принести лучшие и самые стойкие плоды. Исподволь и вперемешку в моей памяти копились всякие мелочи, составляющие премудрость и прелесть сельской жизни. У меня были все задатки для того, чтобы извлечь пользу из подобного учения: крепкое здоровье, зрение истого крестьянина, то есть безукоризненное; слух, сызмала привыкший схватывать малейший шорох; неутомимые ноги и при этом пристрастие к жизни на вольном воздухе, внимание ко всему, что можешь наблюдать сам, что можешь видеть либо слышать, мало склонности к чтению печатных историй, величайший интерес к изустным; чудеса из книг занимали меня меньше, чем чудеса из легенд, и местные поверья я ставил куда выше волшебных сказок.
Читать дальше