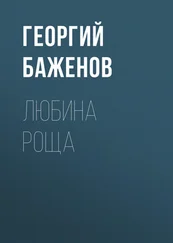Бродяга повторил:
— Этого вы знаете?
И священник произнес:
— Да.
— Кто это?
— Я.
— Наверное вы?
— Да.
— Ну, так поглядите теперь на нас обоих — на ваш портрет и на меня.
Аббат уже видел, несчастный, уже видел, что эти два человека — тот, что на карточке, и тот, что смеялся рядом с нею, — были похожи друг на друга, как два брата; но, все еще не понимая, проговорил заикаясь.
— Чего же вы все-таки от меня хотите?
В голосе оборванца зазвучала злоба.
— Чего хочу? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня признали.
— Кто же вы такой?
— Кто я такой? Спросите первого встречного, спросите вашу служанку. Хотите, пойдем спросим здешнего мэра; только покажем ему вот эту карточку, — и можете мне поверить, он посмеется всласть. Так вы не хотите признать, что я ваш сын, папаша кюре?
Библейским жестом отчаяния старик поднял руки и простонал:
— Это неправда!
Молодой человек приблизился к нему вплотную.
— Ах, неправда? Эй, аббат, довольно вранья. Понятно вам?
Лицо у него было угрожающее, кулаки стиснуты, и говорил он с такой неистовой убежденностью, что священник, пятясь от него, недоумевал, кто же из них ошибается в этот момент.
И все же он заявил еще раз:
— У меня никогда не было детей.
Бродяга ответил без запинки:
— И любовницы, может быть, тоже?
Старик решительно произнес только одно слово — гордое признание:
— Была.
— И эта любовница не была беременна, когда вы ее прогнали?
И вдруг старый гнев, подавленный двадцать пять лет тому назад, но не потухший окончательно, а лишь тлевший в сердце любовника, взорвал возведенные над ним своды смиренного благочестия, веры, самоотречения, и вне себя старик закричал:
— Я прогнал ее, потому что она обманывала меня и была беременна от другого; будь ребенок от меня, я убил бы ее и вас, сударь, вместе с ней!
Молодой человек смутился, пораженный искренним порывом священника, и заговорил мягче:
— Кто вам сказал, что ребенок был от другого?
— Она, она сама, и еще издевалась надо мной.
Тогда бродяга, не оспаривая этого утверждения, заключил безразличным тоном уличного мальчишки, выносящего приговор:
— Ну что ж! Значит, мамаша, издеваясь над вами, тоже ошиблась, вот и все.
Аббат, овладев собою после приступа ярости, спросил:
— А вам кто сказал, что вы мой сын?
— Она сама, когда она умирала, господин кюре... А затем — вот это!
И он снова поднес к глазам священника фотографию.
Старик взял ее и долго, медленно, с сердцем, надрывавшимся от муки, сравнивал этого незнакомого прохожего со своим давнишним изображением. Сомнений не оставалось — это был действительно его сын.
Скорбь овладела его душой, невыразимое, мучительное, тягостное чувство, подобное вновь вспыхнувшему угрызению совести. Кое-что он начинал понимать, об остальном догадывался и вновь видел перед собой грубую сцену расставания. Только для спасения жизни, под угрозой оскорбленного мужчины бросила ему женщина, лживая и коварная самка, эту ложь. И ложь удалась. А от него родился сын, и вырос, и стал этим грязным проходимцем с большой дороги, от которого несет пороком, как несет животным запахом от козла.
Он прошептал:
— Не угодно ли вам пройтись со мной, чтобы как следует объясниться?
Тот рассмеялся:
— Ах, черт! Да ведь я для этого и явился.
И вместе, бок о бок, они пошли по оливковой роще. Солнце уже закатилось. Резкая прохлада южных сумерек накинула на все невидимый холодный плащ. Аббат вздрогнул и вдруг, по привычке священнослужителя подняв глаза, увидел над собою дрожащую на небе мелкую сероватую листву священного дерева, прикрывшего хрупкой своей сенью величайшую скорбь, единственный миг слабости Христа.
И в нем родилась молитва, короткая, полная отчаяния, произнесенная тем внутренним голосом, который не доходит до губ и которым верующие умоляют спасителя: «Помоги мне, господи!».
Потом он повернулся к сыну:
— Итак, ваша мать умерла?
Новое горе пробудилось в нем при словах «Ваша мать умерла» и тисками сжало сердце; в этом чувстве была и тоска мужского тела, которое так и не забыло женщину до конца, и жестокое воспоминание о пережитой пытке, а еще больше, быть может (ведь она умерла), отзвук безумного, короткого счастья юности, от которого ничего уже не оставалось теперь, кроме вечной раны в памяти.
Молодой человек ответил:
— Да, господин кюре, моя мать умерла.
— Давно?
— Да уже три года.
Новое сомнение охватило священника.
Читать дальше