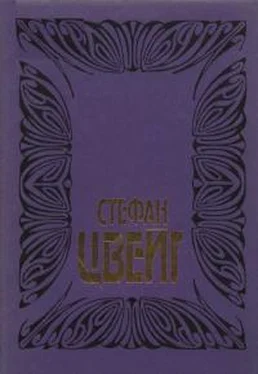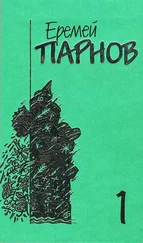Мне было четыре года в пору этой великой смуты во Франции. Двоюродные деды моего отца, переселившиеся некогда в Голландию после отмены Нантского эдикта, предложили моей семье все свое громадное наследство, если она согласится обратить нас в протестантскую веру. Оба эти деда были столетние старики; они жили холостяками в Амстердаме, где они основали и вели издательство. У меня есть книги, напечатанные ими.
Устроили семейное собрание. Мать моя очень плакала. Отец был в нерешительности и обнимал нас. В конце концов от наследства отказались, боясь продать наши души, и мы остались в нищете, которая возрастала с каждым месяцем и привела к внутреннему разладу, породившему печальный склад моего характера.
Моя мать, неосторожная и смелая, увлеклась надеждой, что может восстановить наш дом, если отправится в Америку к одной разбогатевшей родственнице. Из четырех своих детей, которых это путешествие страшило, она взяла с собой меня одну. Мне этого очень хотелось, но, пойдя на это, я утратила всякое веселье. Я обожала моего отца, как Бога. Улицы, города, морские гавани, где его не было, внушали мне ужас; и я забивалась в платье к моей матери, как в единственное мое убежище.
Когда мы приехали в Америку, оказалось, что родственница овдовела, что негры выгнали ее из дому; колония восстала, желтая лихорадка неистовствовала. Мать не вынесла удара. Ее пробуждением была смерть, в сорок один год! Я умирала рядом с нею, меня увезли сиротой с этого наполовину обезлюдевшего острова и, с корабля на корабль, доставили к моим родным, совершенно уже обнищавшим.
Вот тогда-то и для них, и для меня своего рода прибежищем явился театр: меня научили петь, я старалась стать веселой, но была лучше в ролях меланхолических и страстных. Такова уж моя участь.
Я любила жить одна. Меня пригласили в театр Федо*. Здесь все мне сулило блестящую будущность; в шестнадцать лет я была членом труппы, чего я никак не домогалась и не ожидала. Но моя скромная доля составляла в то время восемьдесят франков в месяц, и я боролась с неописуемой нищетой.
Я была вынуждена принести будущее в жертву настоящему и, ради отца, вернулась в провинцию.
Когда мне было двадцать лет, глубокие страдания заставили меня бросить пение, потому что мой голос вызывал у меня слезы, но музыка звучала в моей больной голове, и размеренный ритм, помимо моего сознания, давал строй моим мыслям.
Я была вынуждена их записывать, чтобы отделаться от этого нервного биения, и мне сказали, что это элегия.
Г. Алибер, наблюдавший за моим здоровьем, которое стало очень хрупким, посоветовал мне писать, в виде лечения, потому что не находил другого. Я попробовала, хотя никогда ничего не читала, ничему не училась, и мне стоило утомительного труда подыскивать слова для моих мыслей. Это и есть, должно быть, причина той неумелости и неясности, в которых меня упрекают, но которых я сама не могла бы устранить. Я бы только все разрушила, ничего не поправив, и у меня никогда не хватало сил останавливаться подолгу на этих как бы
♦Театр Комической Оперы в Париже, называвшийся также «Театр Федо», «Театр Фавар», «Итальянский Театр». — Примем пер.
записях впечатлений, которые я старалась забыть, — у меня столько других! Я, как и все, живу, чтобы страдать; это учит скорее мыслить, чем говорить. Красивая речь повергает меня в восхищение, когда я слушаю; но она вызывает во мне только сладостные мечтания, и от этого я нисколько не лучше познаю мои ошибки.
...Я стояла у нашей двери, когда уже не светло и не темно. Я различала его сквозь мягкий покров, облекающий улицу в вечерний час. Он шел быстро; его белокурая, курчавая голова приближалась, словно голова ангела, к нашему дому. Он шел с кладбища, окаймляющего наш старый вал; и вот он подходил. Мы смотрели друг на друга серьезно, мы говорили тихо и мало. «Добрый вечер», — говорил он, и я брала из его протянутых рук широкие листья, зеленые и свежие, которые он срывал с деревьев на валу, чтобы принести их мне. Я брала их с радостью; я долго рассматривала их, и наконец какое-то смущение приковывало мои глаза к земле. Тогда я видела его босые ноги, и при мысли, что они исцарапаны о кору деревьев, мне становилось грустно. Он догадывался и говорил: «Это ничего!» Мы еще немного глядели друг на друга, потом вдруг, повинуясь движению сердца и стараясь, чтобы мой слабый голос не дрогнул, я говорила: «Прощай, Анри!» Ему было десять лет, мне — семь.
Боже мой, какое очарование хранят эти невинные привязанности! Оно проникнуто той же свежестью, которую я ощущала в этих листьях, принесенных Анри, когда они касались моих рук...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу