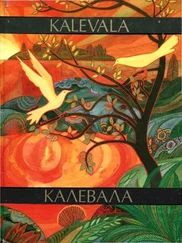У входа в городской ломбард, где Фишерле разворачивает свои операции против Кина, тот сталкивается с Терезой и Пфаффом. Заделавшись ее любовником, Пфафф уговорил Терезу через ломбард обратить в деньги библиотеку Кина. Скандал завершается в полицейском участке, после чего блудный муж возвращается домой (правда, не к страстно ненавидимой супруге, а в швейцарскую Пфаффа).
Между тем, благополучно избежав ареста, Фишерле вызывает телеграммой Георга Кина: потерпев фиаско с синологом, он надеется поживиться за счет его брата, парижского психиатра. В судьбе Фишерле, которого вскоре убивает клиент проститутки-жены, приезд Георга Кина уже ничего изменить не может, а для Петера Кина многое меняется: младший брат выгоняет Терезу и Пфаффа и возвращает старшего его книгам. Но, оставшись один, главный герой поджигает свою библиотеку и гибнет в пламени.
Рассказать все это — еще не значит дать хоть какое-нибудь представление о романе. Фабула у Канетти есть нечто вспомогательное. Описывая единичный, анекдотический случай, он стремится «схватить столетие за горло», иными словами — докопаться до сути окружающей действительности, проникнуть к управляющим ею законам. Ему удалось достичь высокой степени обобщения, но не за счет типизации обстоятельств, а за счет типизации характеров. При этом нарочитое сгущение, концентрация признаков, гротескная гиперболизация превратили эти характеры из личностей в некие условные «фигуры».
Прочитав роман еще в рукописи, Брох сказал: «Но это уже не настоящие люди. Они становятся чем-то абстрактным. Настоящие люди состоят из многого… Можно ли до такой степени искажать людей, чтобы их немыслимо было узнать?»
«Это — фигуры, — ответил ему Канетти. — Люди и фигуры — не одно и то же. Роман как литературный жанр начинается с фигур. Первым романом был „Дон Кихот“. Что вы думаете о его главном герое? Не представляется ли он вам достоверным именно потому, что он — крайность?»
У Канетти вовсе не было на уме соревноваться с Сервантесом. Он лишь указывал на традиции, которыми питалась его поэтика. В разговоре с Брохом он назвал также Гоголя. Тем и ограничился. Однако круг его ученичества, его приверженностей, его художественных симпатий весьма показателен и заслуживает того, чтобы поближе с ним познакомиться.
Из писателей прошлого, кроме уже названных, Канетти высоко ценит Кеведо, Свифта, Бюхнера, из художников — Брейгеля и Гойю. Среди современников он боготворил австрийского сатирика Карла Крауса (1874–1936) (правда, пока ему не стала претить авторитарность и политический консерватизм последнего); он преклоняется перед Кафкой, глубоко уважает Музиля, искренне расположен к Бабелю. Из братьев Манн Генрих нравится ему больше Томаса. Конечно, все это таланты очень разные. Но кое-что общее между ними есть: склонность если не к сатирическому, то к гротескному преображению эмпирической реальности.
«Однажды мне пришло в голову, — пишет Канетти, — что мир не следует более изображать так, как это делалось в старых романах, потому что мир распался… » Сказанное, однако, вовсе не означало для писателя, будто распасться надлежало и самому роману. Заимствуя у Гоголя «свободу фантазии», в учителя по классу композиции Канетти взял себе совсем другого мастера — Стендаля. Работая над «Ослеплением», Канетти не случайно перечитывал «Красное и черное», приобщаясь к сухости его слога, к четкости и логичности его построения. Это не было попыткой наложить скрепы на внутренний хаос: безудержность и дисциплина для Канетти — две стороны одной медали.
На первый взгляд форма «Ослепления» не выглядит сколько-нибудь экспериментальной, скорее традиционной. Роман делится на три части; части, в свою очередь, на главы — более короткие или более длинные. Каждой (вне зависимости от размеров) присуще единство места, а нередко и действия, почти как в пьесе «Свадьба». Архитектоника романа вообще подчеркнуто сценична, особенно в первой его части. Главы здесь уподоблены явлениям в драме: на подмостках одновременно пребывает не более двух-трех действующих лиц; нужные входят, ненужные уходят и т. д. Действие по преимуществу развивается хронологически, во всяком случае в пределах одной сюжетной линии. Вспять оно может воротиться лишь там, где нужно проследить другую линию, совпадающую с первой во времени: скажем, пока Петер Кин находился в сфере влияния карлика Фишерле, Бенедикт Пфафф подчинил себе соломенную вдовицу Терезу. Однако «строгость» романа не только в архитектонике — она и в продуманности всех его мотивов, аллюзий, символических и иносказательных планов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу