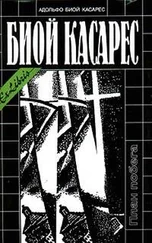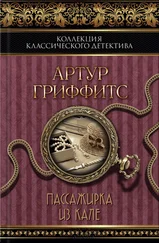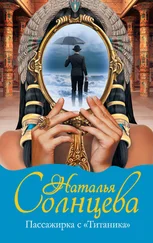Она отрицательно покачала головой, отвернулась и оперлась локтями на край стола. Пустая рюмка дрожала у нее в руке. Она поставила рюмку. Незнакомка поднялась, подошла к дверям бара и, остановившись, (обвела взглядом зал. Глаза ее встретились с глазами Вальтера.
— Вы понравились этой даме… — улыбнулся Бредли.
— У этой вашей дамы удивительные глаза, — ответил Вальтер. — Я совсем не уверен, что она меня видит, хотя и глядит на меня.
Лиза поднялась.
— Извините, пожалуйста. Я сейчас вернусь…
Солист был в ударе. Он явно гордился своим умением пародировать старомодную манеру исполнения.
Нет, не нужны мне миллионы,
Без них могу быть счастлив я,
В тебя, как в музыку, влюбленный,
Любовь моя, любовь моя,
Любовь моя!
Незнакомка по-прежнему стояла неподвижно и смотрела. Она не вздрогнула, даже когда раздались аплодисменты. И только потом медленно вернулась в зал, к своей компании.
Лиза все не возвращалась.
— Не случилось ли чего с вашей супругой? — забеспокоился Бредли.
Вальтер извинился. Надо посмотреть, что с ней. Она и раньше чувствовала себя неважно.
Лиза полулежала в кресле. Глаза у нее были закрыты, и, когда Вальтер вошел, она не шевельнулась.
— Неужели тебе так плохо, родная? — спросил он, подойдя к ней.
— Да, мне плохо.
— Я сейчас пойду за врачом.
— Не надо!
— Я тебя не понимаю. Если ты больна…
— Я уже приняла таблетки. Здесь все равно ничего другого нет…
Он присел возле Лизы и взял ее за руку.
— Лизхен, милая, что с тобой? Скажи мне.
— Наверно… морская болезнь.
Несколько секунд он молча смотрел на нее, потом спросил:
— Ты уверена?
— Не знаю… Очень укачивает.
— Ну ладно, — сказал он. — Ладно. Не хочешь врача — не надо. Чем я могу тебе помочь? Что мне делать?
Она ответила, не открывая глаз:
— Я не хочу тебе мешать. Вернись к Бредли. — Но тут же, как будто внезапно испугавшись, добавила: — Только, Вальтер, не оставайся там долго.
* * *
—…Я не совсем с вами согласен, мистер Бредли, не совсем. Особенно с тем тезисом, который можно было бы, правда несколько упрощенно, сформулировать вслед за вами как «попустительство преступлению». Вы сказали, что именно в этом «попустительстве преступлению» состоит, на ваш взгляд, самая большая вина немецкого народа, равная по своим психологическим последствиям тому… «подвигу», чудовищность которого вряд ли мог предвидеть Фихте, создавая свою теорию. Так вот, я не совсем согласен с вашими выводами, хотя почти полностью принимаю предпосылки, на которых эти выводы основаны.
Я верю, что вы встречали в Германии людей, которые, быстро забыв, кто втянул человечество во вторую мировую войну, стоившую десятки миллионов жизней, говорят о несправедливости, постигшей Германию, и, хуже того, искренне верят, что это несправедливость. И я согласен: это идеальная почва для взращивания новых бредовых идей, к восприятию которых, как вы выразились, так склонна отравленная мистицизмом немецкая душа.
Я верю вашему рассказу о человеке, который прожил пятьдесят лет рядом с Дахау и сказал вам, что не знает, что там творилось. Большинство немцев отвечает в подобных случаях: «Не знаю». Они не знали тогда, когда дымились печи крематориев, когда они принимали в качестве «помощи» разные вещи, оставшиеся от казненных, — почему же они должны знать теперь, когда «исторический подход» дает им возможность смотреть на события издалека, сохранять высокомерное равнодушие?
Ведь нельзя ни от кого требовать эмоционального отношения к истории, а это уже исто рия. И даже не история, а историческая сказка, современный вариант саги о Нибелунгах. Почему же они должны отдавать предпочтение именно этой сказке? Отдавать ей предпочтение — значит признать ее реальностью. А этого они хотеть не могут. Я знаю об этом не хуже вас, мистер Бредли. И я тоже объясняю это нежеланием признать реальностью то, что там происходило. Более того, в их «не знаю» я усматриваю невысказанное и, быть может, даже неосознанное стремление оправдать то, что там имело место, согласно с «присущим» — видите, я употребляю любимое словечко всех знатоков немецкой психологии, — итак, с присущим каждому немцу метафизическим убеждением (его сформулировал Гегель), что любая действительность, какой бы она ни была, разумна и необходима.
Поэтому я не могу возражать, когда вы говорите о своеобразном симбиозе в душе каждого немца, где прекрасно уживаются попустительство преступлению и очистительные тенденции. Обратите внимание, что я вслед за вами не учитываю в своих рассуждениях немцев Восточной зоны, ведь, и по вашим словам, «уже одно то говорит в их пользу», что они не удивляются, когда слышат слово «Освенцим».
Читать дальше