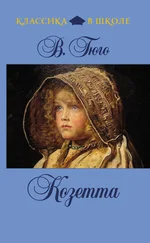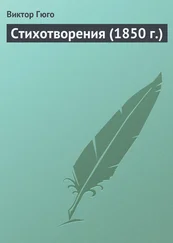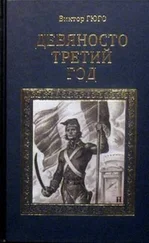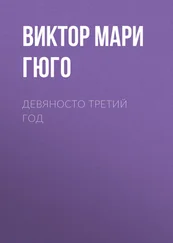Для Гюго и его идеалистического мышления этот эпизод, которым заканчивается роман, весьма характерен. В этом трагическом эпизоде отчетливо обнаруживается противоречивость взглядов Гюго на революционный террор. Писатель оправдывает его лишь как временное, преходящее явление, допустимое лишь в обстановке ожесточенной гражданской войны. В дальнейшем, полагает Гюго, допустимы одни только методы милосердия.
Глубоко реалистичен образ матроса Гальмало — темного, невежественного, суеверного крестьянина, слепо верящего в бога и короля. Именно такова была основная масса вандейцев, которых дворянам и священникам так легко удалось поднять против Республики.
Особого упоминания заслуживает фигура нищего и бродяги Тельмарша. Тельмарш весьма невысокого мнения о «старом режиме», представителем которого является Лантенак; этот нищий крестьянин, живущий в землянке и питающийся каштанами, помнит, что до революции простых людей вешали ни за что ни про что; несмотря на это, он осуждает казнь короля, хотя и затрудняется сказать, почему этого не следовало делать. Он признает, что антагонизм между бедными и богатыми является источником всех происходящих на земле переворотов, но заявляет, что не может разобраться, где настоящая правда, и фаталистически замечает: «Я в это не вмешиваюсь. События они и есть события… Знаю только, что, раз есть долг, — надо его уплатить. Вот и все». Зная, что за выдачу Лантенака обещано огромное денежное вознаграждение, этот умирающий с голоду нищий спасает маркиза, укрывая его в своей землянке. «Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость, — говорит он. — Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие».
Впрочем, суровая правда классовой борьбы вскоре разбивает иллюзии Тельмарша: он был убежден, что делает доброе дело, спасая человека, которого травили как хищного зверя, и вот оказывается, что по приказу этого человека расстреливают пленных, убивают женщин. С ужасом убеждается Тельмарш, что он совершил ошибку, укрыв Лантенака от республиканских властей.
Большой творческой удачей Гюго в романе «Девяносто третий год» следует признать мастерское описание жизни Парижа в период якобинской диктатуры, основанное на изучении разнообразных исторических источников. В этих главах романа, заполненных множеством интересных фактов и деталей, живо чувствуются биение пульса революции, патриотический подъем народных масс, энергия революционного правительства якобинцев. Несмотря па огромные экономические трудности, несмотря на контрреволюционные заговоры и мятежи в провинции, несмотря на обостренное положение на фронтах, «Париж Сен-Жюста», как называет Гюго столицу Франции 1793 года, не падал духом. «Лавиной шли добровольцы, предлагавшие родине свою жизнь. Каждая улица выставляла батальон. Проплывали знамена округов, на каждом был начертан свой девиз».
Никто из историков, писателей, мемуаристов, писавших о французской революции, не дал такого яркого изображения Конвента, какое мы находим в романе «Девяносто третий год». Прекрасное знание исторического материала позволило Гюго дать меткие, хотя и предельно сжатые, характеристики наиболее видных деятелей Конвента как из партии монтаньяров, так и из партии жирондистов. Разумеется, не все эти характеристики исторически верны: некоторые из них ( особенно это относится к характеристике левых якобинцев ) явно тенденциозны и несправедливы.
Знаменитая сцена беседы Робеспьера, Дантона и Марата в кабачке на Павлиньей улице свидетельствует о том, как тщательно изучал Гюго детали событий ( даже мельчайшие ), а также характеры этих виднейших деятелей революции. Впрочем, не всех трех. Если Робеспьер и Дантон обрисованы в общем исторически верно, то этого никак нельзя сказать о Марате. Даже описание наружности Друга Народа, как любовно называли Марата простые люди Парижа, выдает неприязненное отношение к нему Гюго, типичное почти для всех буржуазных деятелей. Это описание искажает действительный физический облик Марата, каким мы знаем его из воспоминаний объективно настроенных современников.
Нельзя согласиться и с общей характеристикой, которую дает Гюго членам Конвента: «Когорта героев, стадо трусов». Этой характеристике противоречит та высокая оценка исторического значения Конвента, которую здесь же дал сам писатель: «Воинский стан человечества… атакуемый всеми темными силами, сторожевой огонь осажденной армии идей, неоглядный бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны».
Читать дальше
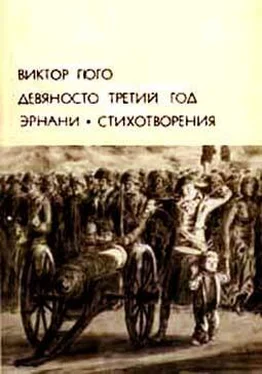
![Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери [Notre-Dame de Paris]](/books/30985/viktor-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri-notre-thumb.webp)