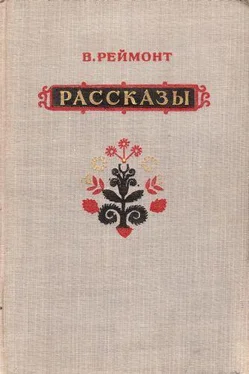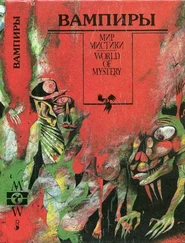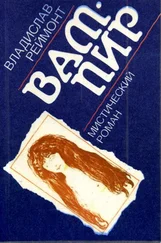— Анджей, не врите! Я вас застал, когда вы клали серну в телегу.
— Еще капельку горелки, пан Стшелец, — на дорогу! Я вам правду сказал, как на исповеди отцу духовному. Вы мне больше, чем отец родной, чем брат, вы благодетель наш! Знаю, что если вы захотите, так я дело это в суде проиграю, потому что так уж водится на свете: шляхтичу везде дорога укатана, а мужик терпи, трудись да плати! Но вы, пан Стшелец, человек справедливый и покладистый. Вы совестливый человек и меня не обидите. А я вас люблю, как отца родного, — завтра жена поросенка вам отвезет, и помиримся, как свои люди. Зачем это судьям заработок давать? Пани Яцкова, еще порцию того же самого!
— А я добавлю утят и меду, потому что знаю, что ваша жена — благородная пани, тонкого воспитания, в школах училась, как и вы, пан Стшелец, не то, что мы, простые мужики! — вмешалась хитрая крестьянка, низко кланяясь пани Стшельцовой. А та, расчувствовавшись, обняла ее, и они стали целоваться.
— Так и быть, я вам, Анджей, не только серну прощу, но, если потребуется вам сосенка какая или дубок молодой, отказать не смогу. Такое уж у меня сердце отходчивое!
— Ваше здоровье! Вот истинно христианская душа!
Они стали беспрерывно чокаться, целоваться и заговорили шопотом, так что стал слышен разговор мужиков за соседним столом:
— Эх, доля проклятая! Извела человека… А вы с ним вместе жили?
— Его поле через межу от моего. Все на моих глазах было. Видел я, что человека горе точит… или, может, болезнь какая.
— А я вам вот что скажу: покойник — не к ночи будь помянут — мог бы еще жить да жить!
— Где там! Его все время рвало. Стонал, стонал, бедняга, пока не кончился.
— Говорят, и доктор к нему приходил?
— Э, много от них толку, от докторов этих! Если пришло время помирать, так хоть человеку целую влуку земли дай и всякого добра, сколько хочет, — все равно не выздоровеет!
— Верно! Выпьем, Гжеля!
— Пейте на здоровье. А кто виноват в его смерти? Если так по правде да по совести сказать, — только свинья да баба его, и больше никто. Была у него свинья, откормленная, толстая, как бочка. Ну, повел он ее продавать, потому что деньги были нужны. А снегу в тот день навалило по пояс. Намучился он, устал — не так-то легко продать! Потом колбасы поел, она у него внутри застряла. Тут ему и крышка! Если бы он ее горелкой запил, ничего бы с ним не случилось, — как бог свят, жив остался бы! А он не пил ничего — и полкружки не мог выпить.
— Не пил, потому что боялся, бедняга, ада в доме…
— Это верно. Баба у него замухрышка, а рука у нее тяжелая: колотила она его не один раз!
— Ваше, кум!
— Будем здоровы! А я вам вот что скажу: если бы он эту стерву бил так, чтобы она света не взвидела, — была бы у него женка смирная и ласковая на диво!
— Правда ваша, солтыс, [3] Солтыс — сельский староста.
у покойника рука была слабая, и обычая нашего мужицкого он не соблюдал — вот теперь землю грызет, царство ему небесное, вечный покой!
— Аминь! Пей, Гжеля!
— Хорош муженек! Жена там еле дышит, а он тут пьет, поганец! — кричала какая-то баба, проталкиваясь к их столу.
— А что мне!.. Ребятишек, как мусору, полна хата, а тут еще новый…
— Гжеля, не гневи бога, не то он еще ее у тебя отнимет!
— Выпейте глоточек, кума, и сейчас пойдем…
— Мне вот Иисус не дал ребят, не послал утешения на старость, — сказала женщина. — А я уж так его просила, и в Ченстохов ходила на богомолье, и у докторов разных лечилась — ничего не помогло. Осталась на свете одна, как перст.
— Ну, ну! Захотела баба ребенка, когда ей сто лет скоро стукнет!
— Не болтал бы ты чепухи, Червиньский, — что же я молода не была, что ли?
— Господь бог переселился на небо, дьявол — в женщину, а квас — в пиво, только неизвестно, когда… запомни это, баба, потому что тебе это Червиньский говорит!
В углу на сундуке сидел молодой паренек, сын здешнего органиста, а перед ним стояла древняя старуха и говорила звучным топотом:
— Семьдесят шесть лет на свете живу, паничек, всего насмотрелась, видела и белое, и черное, и всякое. Служила у таких панов, что только на рысаках ездили, ели на серебряной посуде и по-заграничному между собой говорили. А где они теперь? Где? И читать по молитвеннику я умею, и первой хозяйкой слыла на всю деревню, и дети были у меня, и добра сколько… а все куда-то пропало, ушло, как солнышко летнее, что господь посылает нам, грешным, на радость. Я теперь все знаю, паничек. Знаю, что и панское житье и мужицкое — только одна маята. Я простая баба, но семьдесят шесть лет прожила, — так все понимаю. Паничек! Свет стоит уже шесть тысяч лет — так ведь?
Читать дальше