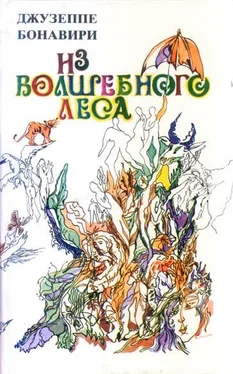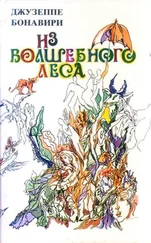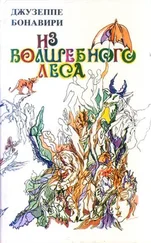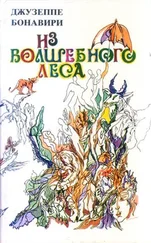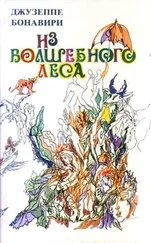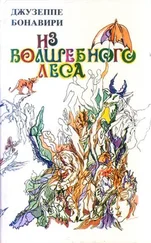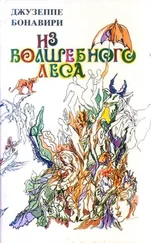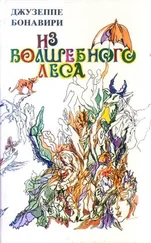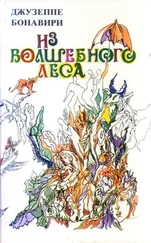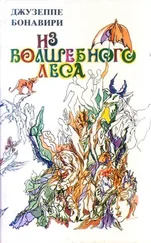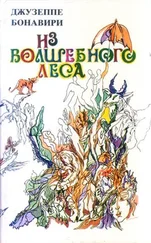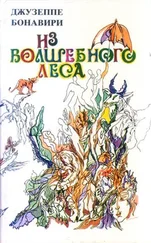— Сенапо, что с тобой случилось? — спрашивал он.
И удалялся, навещая другие цветы и прося их о помощи, но у каждого были свои нелегкие заботы, и никто не мог дать дельный совет, говорили только:
— Скоро появится вода с небес!
Я замечал, что между мною и почвой образовалось равновесие противодействующих сил, но продолжал отчаянно бороться, стремясь завершить мутацию.
Иррумино невольно помог мне.
Однажды, летая вокруг, он вонзил жало в мой стебель. Эта часть стебля скоро высохла.
Вот и хорошо, подумал я, несмотря на сильную боль.
И сказал:
— Иррумино, поищи воды и принеси мне. Может быть, спасешь меня.
И вот маленький шмель, не сумевший слиться со мной в нерасторжимое целое, не понявший меня, хоть и безмерно довольный нашей встречей, принялся за свою смертоносную работу. Он стал делать то, чего не делал никогда раньше: отравлять меня, вонзая свое жало повсюду — в развилку корней, в стебли, в черенки оставшихся листьев, даже в верхушку, — и делал это с похвальным усердием, видимо желая продлить нашу близость на возможно более долгий срок.
— Как хорошо! — шептал я. — Продолжай!
Иногда, устав от этих трудов, он садился на то, что от меня осталось, и печально жужжал, быть может непроизвольно оплакивая недавнее прошлое, случайности и заблуждения, соединившие нас.
Я сумел все-таки обособиться от почвы, выделяя клейкую жидкость; после этого я превратился в едва различимый темный остов.
— Сенапо! — то и дело окликали меня с цветущих склонов, но я, поглощенный саморазрушением, словно бы не слышал этих голосов.
Иррумино улетел, потом вернулся с целой стайкой своих родичей, и все они с жужжанием стали носиться вокруг меня.
Появилось нечто новое: я перестал ощущать собственный временной ритм; и мне казалось, что цветы, пчелы, воздух, зной — лишь пустые, бессмысленные явления.
— Что со мной? — спрашивал я.
Тем временем начали опадать листья, они слетали легко, ложились на землю или без устали крутились в овраге.
Как я уже говорил, я, судя по всему, больше не чувствовал ни удовлетворения, ни недовольства, а только бесстрастно преломлял световые лучи да следил за центробежными процессами, происходившими внутри меня.
Тому, кто смотрел на меня со стороны, могло показаться, что я становлюсь все меньше и меньше: почти не оставалось уже тычинок, лепестков, бутонов. Но при этом я чувствовал, как разрастаюсь в каком-то другом гравитационном поле, в каком-то другом измерении. Что-то нарастало у меня внутри; думаю, то была просто-напросто деформация занимаемого мной пространства.
Но остальные видели только убогий остов растения, вянущие стебли, опадающие листья.
Я почти ничего не видел, из внешнего мира до меня лишь изредка доходили световые волны, но я не замечал их, я презирал этот знойный, без единого дуновения, воздух, эти густые заросли трав и кустарников и даже собственное поразительное превращение, которое ощущал одновременно во всех частях тела.
От Иррумино в моей памяти остались не веселое жужжание, не стремительные перелеты от меня и ко мне, а лишь еле видный цветной зигзаг или колыхание воздуха в моем родном овраге. До меня доносился какой-то рокот — то ли он шел от Иррумино, то ли от других, — и я не могу с уверенностью сказать, была ли то музыка, или какое-то странное звяканье, или треск; помню только невнятные, едва различимые звуки:
— Necmihiconsuetosamplexunutritamores… amores, Senapenecnostradulcisinauresonat… [1] «Не насыщает моей любви, как бывало, в объятьях / Кинфия, голос ее сладко в ушах не звучит» (лат.). Проперций, I–XII. Цит. по кн.: Катулл. Тибул. Проперций. М., «Художественная литература», 1963. У Бонавири «Кинфия» заменена на «Сенапо». — Примечания переводчика.
Словом, это был нежно-заунывно-трескучий погребальный плач, то смолкавший, то звучавший вновь, но я был слишком поглощен созданием собственной исключительной структуры, могущей опрокинуть прошлое и связи, на которых оно держалось, и не мог внимательно вслушиваться в эту мелодию.
Правда, в какую-то минуту возник страх утратить истины, обретенные в эти годы, и тогда я признал всякую вещь обманом и подумал, что Иррумино для меня был лишь чистым понятием в бесплодной погоне за знанием.
Не знаю, как удалось мне обнаружить струйку воды меж двух расселин в камне, можно было напиться, но я отвел от нее последние уцелевшие корни, отторгнув навсегда прекрасное обличье растения, присущее мне прежде.
Ромашка и остальные — чем были они теперь? Безмерно далеким, в пятнах светотени переплетением каких-то линий.
Читать дальше