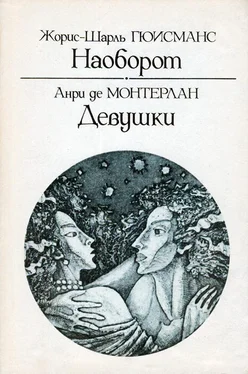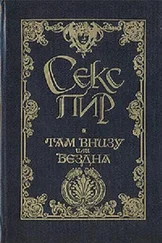Закрыв книгу и глаза, я ищу ее. Предо мной появляется мудрый поэт и указывает ее в гимне, мистическом, как лилия. Ритм этой песни похож на розетку древней церкви: среди орнамента из старых камней, улыбаясь в серафическом ультрамарине (он воспринимается молитвой, исходящей из глубины их глаз, а не из нашей вульгарной лазури) Ангелы белые, словно облатки, выплескивают в пении свой экстаз, аккомпанируя себе на арфах из самородного золота, на чистых лучах с контурами труб и на тамбуринах, где звенит девственность юных громов; у святых есть пальма — и я не могу смотреть выше теологических добродетелей, настолько невыразима святость; но я слышу, как бессмертно взрывается слово: Аллилуйя!
Блеклое небо над обветшалым миром уйдет, может быть, вместе с облаками. Пурпурные клочья изношенного заката линяют в реке, спящей на затопленном лучами и водой горизонте. Скучают деревья; под листвой, побелевшей, скорее, от пыли времени, чем от дорожной, поднимается палатка Явителя Прошедшего. Уйма фонарей ждет сумерек и оживляет лица несчастной толпы, источенной вечной болезнью и грехами веков; мужчин около их тщедушных приспешниц, брюхатых гнилыми плодами; с ними погибнет земля. В беспокойной тишине глаз, молящих солнце, что уходит под воду с отчаянием крика, обычный зазыв: "Ничто не доставит вам удовольствия духовного зрелища, ибо нет теперь художника, способного представить хотя бы его жалкую тень. Я приношу живую, высшей наукой сохраненную Женщину былых времен. Какое-то первозданно-наивное сумасбродство, золотой экстаз, черт знает что! ею названное волосами, льется с изяществом тканей вокруг лица, освещенного кровавой наготой губ. Вместо ненужной одежды у нее тело; и глаза, подобные редкостным камням, не стоят взгляда, исходящего из ее ликующей плоти: от поднятых грудей, словно налитых вечным молоком, с обращенными к небу остриями, до гладких ног, хранящих соль первого моря".
Вспоминая жалких жен, лысых, перепуганных, теснились мужья; грустным женам тоже любопытно было взглянуть.
Едва все насладятся созерцанием этого благородного обломка какой-то проклятой уже эпохи, — одни пребудут безразличными (у них не будет сил постичь); другие, взволнованные, с глазами, полными слез, обменяются взглядом, а тамошние поэты, чувствуя, как хмель смутной славы зажигает потухшие глаза, побредут к своим свечам, преследуемые Ритмом, забыв, что живут в эпоху, пережившую Красоту.
* * *
Мир исчезнет… Что ему впредь делать под солнцем? Ведь предположив, что он продолжает длиться материально, можно ли утверждать, что это достойное существование? Не хочу сказать, что он сведется к шутовскому беспорядку Южно-Американских республик и что, быть может, мы вернемся к дикости и поползем с ружьем в руках по заросшим травой руинам цивилизации искать корм. Нет. Подобные приключения предполагали бы некую жизненную энергию, эхо первых веков.
Мы погибнем от того, что давало иллюзию жизни. Техника настолько американизирует нас; прогресс настолько атрофирует в нас духовность, что никакие кровавые, святотатственные и противоестественные мечтания фантазеров не смогут сравниться с последствиями этого. Обращаюсь к любому, желающему возразить, что жизнь продолжается.
О религии, полагаю, бесполезно разглагольствовать, искать ее обломки…
Человеческое воображение может легко представить республики или прочие государства, достойные славы, если они управляются святыми, избранными. Но не политическими учреждениями будет характеризоваться всеобщая разруха или всеобщий прогресс; дело вовсе не в названии. Это произойдет от опошления сердец.
Ребенок сбежит из дому, но не в восемнадцать лет, а в двенадцать… Он сбежит не для того, чтобы освободить красавицу-узницу из башни; не для того, чтобы обессмертить чердак возвышенными мыслями, а для того, чтобы организовать прибыльное дело, обогатиться, конкурируя со своим мерзким папашей, основателем и акционером газеты…
Все, что не будет стремлением к Плутосу, будет расценено как бесконечная глупость. Правосудие (если в эту счастливую эпоху еще способно будет существовать правосудие) станет преследовать граждан, не сумевших сколотить состояние.
Твоя супруга, о Буржуа! твоя добродетельная половина, законное обладание которой заменяет тебе поэзию; неусыпный страж твоего сейфа, будет лишь идеалом содержанки.
Твоя преждевременно созревшая дочь возмечтает с колыбели о том, что продаст себя за миллион; а сам ты, о Буржуа, еще меньше поэт, чем сейчас, ты ничего не сумеешь возразить; ты ни о чем не станешь сожалеть… Благодаря прогрессу, у тебя останутся только кишки!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу