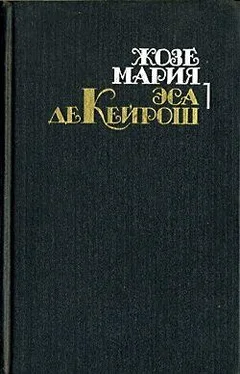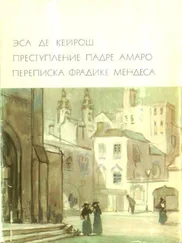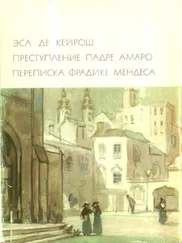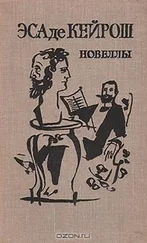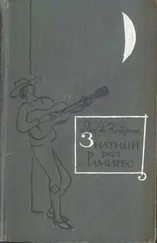В «Семействе Майа» продолжается извечный спор Кейроша с романтизмом. Романтическая музыка, романтические стихи, романтическая проза то и дело вторгаются на страницы романа, имевшего первоначально подзаголовок: «Эпизоды романтической жизни». Романтический поэт Томас де Аленкар, романтический любовник Эга, романтический композитор Кружес, наконец, романтический, несмотря на свое «спортивное» воспитание и земную профессию врача, герой Карлос — вот далеко не полный перечень «жертв романтизма». Сама коллизия «Семейства Майа» соотносится не только с древнегреческой «трагедией рока» и с донкихотской ситуацией, но и с сюжетами двух знаменитейших произведений европейского романтизма: повести Шатобриана «Рене» и поэмы Байрона «Манфред», в которых любовь также сводит брата и сестру. Карлос, спешащий на ночное свидание к Марии уже после того, как раскрылась тайна ее происхождения, — герой вполне байронический.
Но романтизм в «Семействе Майа» представлен не столько как сопротивляющийся, осмеиваемый враг, сколько как враг поверженный и даже заслуживающий сострадания и сочувствия. В Томасе Аленкаре, в его воспоминаниях о прошлом, дышащих «чуть слышным ароматом умершего мира», в почитателе Гамбетты Гимараэнсе, в романтических бунтарях 20—50-х годов есть теперь для Кейроша что-то по-своему привлекательное и достойное. На фоне торжествующей буржуазной безликости времена романтизма выглядят «веселыми»:
«— Лиссабон в те времена был веселее, — заметил Карлос.
— Не в этом суть, мой милый! Он — жил! Его не наводняли… все эти ученые рожи с их философским пустословием и позитивистской чепухой… В нем властвовали сердце и пылкость чувств! Даже в политике… Нынче политика — это свинарник, в ней подвизается банда мерзавцев…» — разглагольствует Аленкар. В этом же свете изображает современный Лиссабон и Кейрош.
Романтизм привлекает теперь Кейроша как непосредственный преемник культуры Возрождения, эпохи, в которую человеческая личность достигла наивысшего совершенства. Карлос на раз именуется на страницах романа «принцем», «князем», «просто молодым человеком» эпохи Ренессанса. Отдавал ли Кейрош себе отчет, сколько иронии заложено в этих уподоблениях? Ведь в эпоху Возрождения мир простирался перед человеком как безграничное поле деятельности, на котором личность могла реализовать все заложенные в ней природные возможности. Напротив, окружающая Карлоса и его друзей действительность — поле сплошной бездеятельности, праздного и ленивого времяпрепровождения обеспеченных дилетантов. Поколение «середины века», в отличие от своих отцов и дедов, выступает не участником, а созерцателем истории; Карлос, Мария, Эга что-то слышали о гражданских войнах 20-х годов, о французской революции 1848 года, о Гарибальди, мельком видели Парижскую коммуну, но гораздо лучше знают Париж кафе, Бульваров и вернисажей. Здесь влачит остатки «проигранной» жизни Карлос да Майа…
* * *
Кейрош прошел довольно типичный для многих европейских писателей последней трети прошлого века путь — от буржуазно-либеральных иллюзий молодости через анархистский революционаризм и позитивистский реформизм к консервативному утопизму.
Ощущение «проигрыша», испытываемое писателем-португальцем, особенно усугублялось зрелищем национального упадка, духовного и физического вырождения некогда великой нации поэтов и мореплавателей, героическое прошлое которой превратилось в миф, эксплуатируемый пришедшей к власти, мнилось, навечно, буржуазией. Оставалось либо покончить с собой, как это сделал один из ближайших друзей Кейроша, великий поэт Антеро де Кентал, когда-то в молодости входивший в португальскую секцию I Интернационала, либо замкнуться в бесплодном артистическом элитаризме, либо бежать в иллюзорный мир патриархальной деревенской простоты и благочестия, приписав «засилью цивилизации» все пороки буржуазного общественного строя.
Последние книги Кейроша, в частности опубликованный уже после его смерти роман «Город и горы» (1901), непосредственно вырастающий из новеллы «Цивилизация», — дань иллюзии куда более старой, нежели буржуазный прогресс, иллюзии, о которой писал еще Камоэнс в «Октавах о несправедливом устройстве мира…».
Блажен, кто не знавал иных забот,
Как охранять от злого волка стадо,
Вести к ручью с водой прохладной скот,
Чье млеко — всем трудам его награда,
И пусть фортуна мир перевернет —
Жизнь для него довольство и отрада… [4] (Перевод А. Косс)
Читать дальше