И персидский шах отрекся от престола, и русский царь с царицей нанесли визит Густаву Пятому в Стокгольме, и юный социалист, не имев случая стрелять в них, с досады застрелил шведского генерала… И люди начали летать! Блерио перелетел через Ла-Манш!
И на другой год, в январе, встала над землей страшная, хвостатая комета, — Арвид с Лидией однажды вечером рассматривали ее в Обсерватории, — а еще через несколько месяцев португальцы прогнали юного прекрасного короля и объявили себя республикой, и над Марокко встала черная туча, и великие державы скалили зубы и огрызались, и ни одна не решалась укусить первой!
Арвид Шернблум последние года два-три работал в свободные часы над монографией о Шопене. Осенью 1910 года книга была закончена и вышла пышным изданием. Она впечатлила знатоков и была даже переиздана.
— Как тебе ее надписать? — спросил он Лидию, когда пришел к ней с книжкой.
— Пиши что вздумается, — ответила она. — Только карандашом, чтоб можно стереть, если Эстер возьмет ее почитать.
И он написал:
«Дорогой Лидии от беззащитного Шопена».
Он мог написать это, потому что они были добрые друзья и потому что Лидия не обижалась на шутки (редкое в женщине свойство), и еще потому, что играла она на самом-то деле превосходно.
Вечером того же дня они были в Опере: давали «Кармен» с фру Клауссен. Оба без памяти любили эту вещь.
Сидели не рядом — какое! — ее место было чуть поодаль. И в театре они не разговаривали.
После представленья ему пришлось идти в редакцию. Но сначала он проводил ее до двери. Как столько уже раз прежде, они постояли в тени старой часовни. Осенний вечер обдавал злым ветром. Луна пробиралась меж рваных туч. Облетелые вязы стонали и клонились.
Оба молчали.
— По закону, — сказал он, — бедного Хозе полагалось повесить.
— И его повесили? — спросила она.
— Да, в новелле Мериме его повесили…
Он задумался.
— А ты можешь такое понять? — спросила она. — Когда мужчина убивает женщину только за то, что она его больше не любит.
Он ответил:
— Она ведь погубила ему всю жизнь. По ее милости он стал дезертиром, бандитом. И заметь: в начале последней сцены он еще вовсе не собирается ее убивать; у него этого и в мыслях нет, он пришел не за тем. А она оскорбляет его, дразнит, мучит. Она кричит ему о своей любви к другому. Это как хлыстом по глазам. И уж тут-то он теряет голову. Он же простой парень, он не поэт. Будь он поэт, Кармен бы не пришлось отведать ножа, а ему самому — веревки. У поэтов свои пути, свои средства. — И он заключил, усмехнувшись: — Один молодой сочинитель, весьма, впрочем, даровитый, и молодая актриса были помолвлены, но оба передумали. И, представь, сочинитель воспел прерванную помолвку, ее причины и поводы в стихах, а стихи поместил в «Национальбладет»!
Лидия улыбалась.
— Да, — сказала она. — Я уж прочла…
Он довел ее до двери и поцеловал на прощанье.
Несколько минут он еще постоял на кладбище, чтоб посмотреть, как засветится ее окно. И оно засветилось, но тотчас она спустила шторы.
Она наконец-то обзавелась шторами.
«Нынче, когда люди научились летать, — думал он, — даже на пятом этаже и даже подле кладбища без штор не обойтись…»
Впервые после развода Лидия проводила Рождество в доме Рослина.
«Тут все по-прежнему, — писала она Арвиду. — Как в прежние времена, снегири заглядывают ко мне в окно. Как в старые времена, я после обеда играю для Маркуса в темной гостиной. Только дочка подросла, и теперь она совершенная прелесть. Маркус мил, предупредителен, но мы почти не разговариваем. Он очень постарел…»
И зима прошла, и снова настала весна, а в начале лета Арвид позволил себе роскошь съездить с Лидией в Копенгаген и Любек. В копенгагенском Тиволи они катались на карусели. Светлой летней ночью на катере они отправились в Любек. В сумерках они бродили по старым извилистым любекским улочкам, и пили рейнское вино в старых погребках, и любовались накренившимися — вот-вот рухнут и раздавят! — зелеными от патины медными башнями старого собора. И целовались подле оконницы в той самой зале Ратуши, где четыреста почти лет назад юный Густав Эрикссон на своем корявом немецком изъяснялся с любекскими властями и добился от них всего, чего хотел.
Осенью 1911 года Арвид Шернблум снова издал книгу. Называлась она «Государства и народы». Время благоприятствовало ее успеху. Речь в ней шла о положении Швеции среди прочих стран и о ближайших перспективах шведской внешней политики. Иные сужденья были плодом еще карлстадского ученичества, однако же пока не устарели. Отразились в книге и более поздние раздумья. Но именно теперь шведов охватила тревога за будущее. И за несколько недель книга выдержала три изданья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
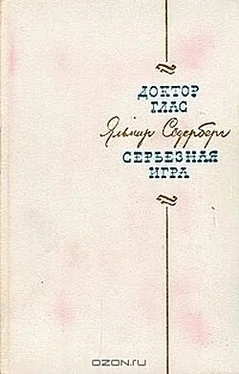






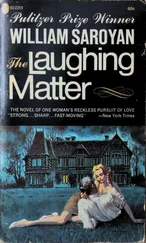
![Майя Ахмедова - Другой Ледяной Король, или Игры не по правилам [Игра вслепую + Игра с огнём + Игра в прятки]](/books/426615/majya-ahmedova-drugoj-ledyanoj-korol-ili-igry-ne-p-thumb.webp)


