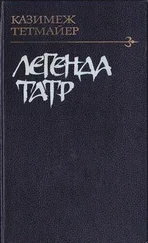Она нагнулась, а он обнял ее руками за плечи и поцеловал в обе щеки; и она его также.
— Прощай, старуха!
— Эх, Куба… Куба…
— Эх, Кася…
— Бог тебя да поведет в вечность.
— И тебе да поможет в смертный час.
— И тебя, Куба, да примет во славу небесную. Аминь.
— И тебя, Кася, когда-нибудь. Аминь.
— Аминь!
— Аминь!
Дети, внуки и правнуки Зыха, — старые седые мужики, бабы — старухи с поседевшими волосами, мужчины в годах, женщины в цвете лет, некоторые с грудными ребятами, рослые парни, подростки, мелкая детвора — все стали у постели Зыха, а он их благословлял. Потом сказал:
— Расступитесь!..
Встал без чужой помощи и, как лежал в постели — в лаптях, в порках, — так и встал; опираясь о плечи и грудь тех, которые окружали его, шатаясь, медленно подошел он к окну. В окно видны были Червонные Верхи, Витованские горы, поросшие старыми соснами, вековыми лесами, видны были поляны и широкие снежные долины.
Красное солнце сияло на горах, как огонь, и, как огонь, горело на зимнем небе. Тогда Зых сказал:
— Медведь спит, — пора и мне. Оставайтесь с Богом, скалы и горы!..
И прошел несколько шагов вдоль стены, опираясь о нее рукой, к полке, на которой лежал его старый разбойничий нож с кривым острием и с тремя медными шариками на рукоятке, сделал им три креста в воздухе и трижды им перекрестился. Потом наклонился и, опираясь о стол рукой, провел концом ножа круг по тому месту, где стоял. Все отошли к стенам. Он лег в этом кругу, закрыл глаза, вздохнул несколько раз и умер.
На третий день его положили в гроб, сколоченный из еловых досок. В гроб ему положили трубку, кремень, старинную запонку от рубашки и разбойничий образок, нарисованный на стекле, который он особенно любил при жизни.
Гроб никто не провожал, никто не шел за останками. Костел был далеко, а снега были большие и топкие. Старший сын закутал гроб рогожей, положил в сани, опоясался соломенным поясом, взял топор, вилы железные, сел на гроб, перекрестился и тронул лошадь. Смотрел он во все глаза, как бы лошадь где-нибудь, испугавшись волков, не вышибла гроба из-под рогожи и чтобы из него чего-нибудь не выпало. Он хорошо помнил, что отец-покойник ему не раз говорил: «Когда мертвого везешь, так Боже тебя храни потерять что-нибудь, что вложат в гроб покойнику из того, что он при жизни любил: трубку, табак, или образочек — он тебе задаст! Станет в туче, десятин семь градом выбьет. А потеряешь, вернись и ищи! Должен! Пусть их лежат с ним!»
Так умер Якуб Зых и так его хоронить везли.
Был мужик в Перонине по имени Куба Копинский. О нем говорили, что ему никогда дождь не нужен, разве зимой. И впрямь, не знаешь, чего у него было больше, полей ли, по которым вода протекала, или воды, что по полям текла.
«Кубе в половодье хорошо — говорили мужики, — у него-то вода уж не разольется». Если дождь лил, говорили: «У Кубы хозяйство прибыло». Ехал он с плугом, шутили: «Смотри, как бы случаем земли не задеть, а то плуг испортишь». «Едет Куба воду пахать, форель вырастет!» Идет он с граблями, опять шутят: «Такого еще рыбака не бывало, чтобы лососей граблями ловил». Едет Куба на возу: «Смотри, как бы не протекло. Лучше бы бочку взял». И так далее. Прозвали ого Кубой-Водяным.
Сердился Куба и болел душой от смеха людского. Да ведь люди, как люди. Они — точно псы: залезет чужой пес к толстым городским овчаркам, или попадет меж деревенских собак — все на него гуртом! И самая добрая защищать не станет, — дай Бог, чтобы хоть вместе с другими не тормошила. Да и то не от жалости, а от лени или от старости. И всегда бывает так и иначе не бывало.
Сердился Куба и болел душой от этого, а тут еще нищета его душила. Когда же подросли три его дочери, три дочери, что тополи, — Рузя, Улька и Викта — ни накормить их нечем, ни одеть по-людски. Мать не узнала этого горя и стыда: умерла, родив последнюю, Викту. И как она только выросла, Господь ведает… Ульке было два года, а Рузе три. Козьим молоком вскормили… Эх… таково-то на воде хозяйничать…
Зато, что это за род был! Копинские были мужики, как буки, такими были и Цапки, от которых он жену взял. Бабы — что ворота железные. Если какая-нибудь девка из этого рода станет в дверях — и не пробуй пройти: голову хоть под мышки спрячь, а между ее бедром и дверью не пролезешь. Юбки на них так и прыгали на ходу; молодежь говорила — от радости, старики — от дородности. Зубами гвозди крошили, а силища!.. мало было таких силачей, кого бы они не могли грохнуть оземь, схватив за пояс. Правда, что насчет поясницы мужики всегда слабее баб.
Читать дальше