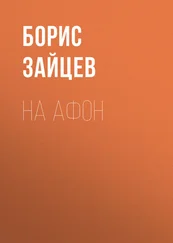— Ах, вот, действительно, в такое время петь!
— Именно петь. Все эти смуты, революции и казни отойдут, искусство же останется.
Но я махнула на него листом газеты и пошла жарить баранину. Печка была разожжена. И скоро сладкий синеватый дымок лег слоями в воздухе. Бесстыдно-нежная Вакханка со стены глядела так же розово, тепло. Насмешливо ли? Ну, да Бог с ней. Жаря, развернула я официоз московский – бывший. «Еще к вопросу о борьбе с оврагами». Я улыбнулась. И мне вдруг не захотелось ни читать, ни думать. Я бросила газету в печку. Она ярко вспыхнула. Мгновенно мысли честных стариков о безлошадных, общине и хуторах стали блеснувшею игрою света и тепла, загудели весело в трубе. Баранина сильнее зашипела. Я ее перевернула, и пошла к Мушкиным — за солью.
Когда вернулась, золотой луч солнца плавал в синеватом, точно ладан, чаде. От Георгиевского доносился разговор — там был Павел Петрович.
У плиты стоял Андрюша.
— Мама, я хотел стащить кусочек этого барана.
— Что же, бери, ешь.
Но он вздохнул.
— Нет, не возьму.
Он имел вид что-то очень уж серьезный.
XIV
Муня с Андрюшей не сошелся, я довольно скоро это поняла. Андрюша ежиком держался, а когда на юге снова поднялась война, стало и вовсе трудно. Андрюша бегал все к каким-то скаутам, мальчикам и гимназистам, к Муне же ходили юноши в обмотках и с начесами. Мы были хороши с ним, но нас разделяла грань. Он это чувствовал.
Однажды, в мае, к Муне зашел посетитель. Я из коридора, где стирала, услыхала с неприятным холодком голос, где-то слышанный. Мушкин вышел, тяжело закашлявшись.
— Еще один пожаловал. При-я-тель! Все товарищи, зубастые все, черти, так и норовят, кому бы в глотку половчей вцепиться.
В полуоткрытую дверь видно было — на конце стола обеденного гладила жена Мушкина, а у другого, верхом на стуле и спиной ко мне сидела кожаная куртка с неприятно-белой шеей. Огромное, румяное лицо Муни невесело. Красавин быстро обернулся. Увидав меня, чуть улыбнулся серыми, покойными глазами.
— Вот нам везет встречаться.
— Да, везет.
Муня вздохнул.
— На фронт меня опять, Наталья Николаевна. Под Ростов. С товарищем Красавиным.
Я обтирала руки мыльные о фартук.
— Что-ж вам пожелать?
Муня молчал.
— Ему надо желать победы, — холодно сказал Красавин. — Ну, конечно, вы не пожелаете.
— Быть бы ему просто Муней, вот здоровым парнем, подучиться, влюбиться…
Красавин встал.
— А ведь вы прятали тогда кого-то. Наверху, во флигельке. Сознайтесь.
Я дерзко ухмыльнулась.
— Муня, помогите мне нарвать кленовых веток.
Он спустился за мной в сад. Сквозь нежную листву сияли купола Ильи Пророка. Ветер мягко и тепло струился в кленах. По дорожкам золотые блики.
— Завтра Троица, хочу украсить дом.
Муня покорно мне нарезал. Красавин стоял молча, иногда слегка посапывал.
— Завтра легкий и прекрасный день, тот день, который освящает жизнь и наполняет ее светом, Духом. Обедня длинная, торжественная, трудная, с цветами. Женщины все в светлом. Не особенно ведь плохо, Муня?
— Каждому свое, Наталья Николаевна. — Вам одно, а нам другое.
Красавин ничего не удостоил возразить, хмуро кивнул, и чрез разобранный забор, тропинкою в акациях вышел на улицу. А мы с Муней расставили ветви по углам скромных комнат, и они стали наряднее, живее, как-то духовней. Ветви были и под Ахтырскою, ветвями же я убрала Зевса из Отриколи в прихожей. Может быть, он требовал бы лавра, ну, пускай довольствуется русским кленом и березкою.
На другой день вся наша коммуна поделилась: Мушкин в церковь, разумеется, не двинулся, Муня колебался, а Георгиевскому просто не хотелось — мы отправились с Андрюшей и Маркелом.
Я замечала еще смолоду: служба сближает, не мужа и жену, а человечески. Теперь же вообще такая жизнь, сильней товарищи, меньше любовники. И в это солнечное утро майское, на литургии Троицына дня, рядом с Маркелом я была будто со старшим братом. Андрюшу меньше ощущала. От Маркела же, среди чудесных песнопений, золотого света, запаха цветов и ладана шло ясное и крепкое. Особенно — на молитве Троичной. Как становился он своим тяжелым телом на колени, как стоял — казалось, да, его не сдвинешь, нескладного моего Маркела, шляпу, не умеющего, будто бы, ни встать, ни сесть. Здесь же, в толпе светло-взволнованной, полуголодной и намученной, но сейчас нарядной, он отлично знал, как быть.
Выходя из церкви , я ему сказала это, и поцеловала.
— Учит жизнь нас… да. Многому учит… многого не знали.
Читать дальше