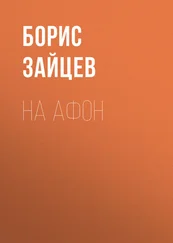Я ощущала себя в этот день очень взволнованно. Никого видеть не хотела, и была одна.
И несколько дней сидела дома, пела, в одиночестве слоняясь по бульварам.
В один из вечеров села в трамвай, доехала на Земляной вал, к Георгию Александровичу.
Я поднялась прямою лестницей во второй этаж. В лучах заката, пышными, и нежными кудрями разметавшегося, взглянул на меня бюст Юпитера Отриколийского. Теми же слепыми и покойными глазами смотрит он на утро, ночь, и Вечной Ночи не боится. Да, мне с ним удобно, мне легко. Я отщипнула листок с мирта, что стоял у постамента, прошла в кабинет зеленоватый, выходивший в сад.
Золотистый свет, с зеленоватым отблеском листвы, наполнял комнату. Над папкою разложенной, Георгий Александрович, в пижаме. Увидев меня, встал, поцеловал руку. В спокойствии движений и в изяществе — такое-ж как бы продолжение Юпитера. В папке гравюры: Терборх и Вермеер. Я наклонилась.
— Ах искусство, все искусство…
Он их сложил.
Почему мне быть против искусства? Да, но сейчас, сегодня, вряд ли взволновал бы меня Терборх.
Мы через балкончик сошли в сад.
— Дубы, липы… Вам бы нужен сад со статуями… под лаврами, и миртами, и олеандрами.
Он кивнул. Мы сели. Здесь было прохладно, влажно, сумеречно. По верхам деревьев протекало еще, нежным золотом, прощание солнца.
— Я скоро все увижу это: мирты, и оливы, кипарисы…
— Вот как!
Он взглянул — прямо в глаза мне.
— Уезжаю в Рим.
Я разметала веточкой букашек красно-черных на углу скамейки.
— И надолго?
— Да. Может быть, это нелепо все… Но был бы очень рад, если бы вы, от полноты жизни вашей, от избытка… вспомнили бы обо мне и написали… ну, хоть несколько-то строк.
— А если бы вы не поехали совсем?
— Нет, я поеду.
Я вскипела.
— А вдруг я пожелаю, чтобы вы остались, и не уезжали вовсе в этот Рим?
Он на меня смотрел — долго и внимательно.
— Зачем я вам?
— Ну, просто, я бы пожелала, чтоб вы были тут? Представьте, мне приятней это было-б.
Георгий Александрович слегка задохнулся.
— Теперь… нет, всетаки уехал бы. Я буду рад, если увижу ваши письма, но уж здесь… «добрым другом»… нет.
Я вдруг почувствовала, что краснею. Встала, быстро обняла его, поцеловала в лоб.
— Ну, уезжайте.
Я взволновалась, вдруг я вспомнила Маркушу и Андрея, как они далеко, скоро — далеко будет и этот седоватый человек с профилем медали древней, пусть, я остаюсь в одна в Москве весенней, пьяной, нежной, жгучей.
Я недолго посидела у него. Был вечер, я пешком шла под звездами, по пустынным улицам Москвы. Да, окончательный полет! Некому поддержать, остановить меня.
И я, конечно, оказалась в клубе. Игроки приветствовали, удивлялись, почему я долго не была. А в час явился Александр Андреич. Играли до рассвета, он проводил меня домой, — вставало солнце розовое, май налетал в златистых облачках, в курлыкании голубей на Страстной площади, в нежной голубизне далей к Триумфальной арке.
В те дни я позабыла все. Были ли у меня муж, сын, отец? Не знаю. Раза два я выступала на концертах. Но интересно было только то, что связано с огромной мастерской, полной света весеннего, запаха красок, куду залетал солнечный теплый ветер, колебал портьеру, доносил дребезжание пролеток с Арбата. Александр Андреич размалевывал свои макеты, ерошил волосы, сердился, волновался, ждал меня. Когда я ощущала крепкое и грубоватое его пожатие — у меня немели ноги.
Проходило время. Маркуша мне писал, но я не отвечала. Май уже кончался. Надо было ехать, — я не собиралась. Александр Андреич кончил эскизы декораций к осени, месяц хотел прожить на даче у Москва-реки под Архангельским, требовал, чтобы и я там поселилась. Собирался он в Париж — подготовлять выставку.
Я ездила три дня в неделю под Архангельское, где Нилова сняла комнату у священника, в деревне, в двух верстах от его дачи.
Я жила будто у подруги, но понятно, больше у него бывала. Впрочем, и он тоже приходил к нам, мы сидели втроем в садике поповском, с честными яблонками, распивали чаи, Нилова хохотала, показывая зубы нечищенные, убегала к себе, сотрясала окрестность гаммами.
— Наташка, а ты чувствуешь, как у меня do получается? Ты понимаешь?
Проходил благообразный батюшка, в белом подряснике, к своим пчелам. Солнце пекло. Москва-река, с отмелями, куличками, разомлела от жары, мальчишки табунками голенькими проносилиьс по песку. Брели дачницы — в мохнатых полотенцах. Тоже ложились на песке, на солнце, нежили тело нежное.
Читать дальше