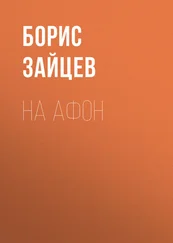Раз я воротилась что-то слишком поздно — думаю, в шестом. Был уж апрель – светало чистым, теплым днем. Я прошла в свою комнату. Все на своих местах — у стенки пианино, ноты, письменный столик с фотографией Андрюши, и фиалки в чашке. Штора спущена, кровать открыта. Мирное, покойное, обычное. Все — теплое и дружное. Куда же это я? Почему зеленый стол, лихачи? Рядом спит мальчик, дверь в комнату Маркуши приотворена, а я только что заявляюсь, в духах, на мне отзвук нечистой ночи кабацкой. Как дико все! И как нелепо! Подошла, шторы раздвинула, отворила окно. За Страстным солнце вставало, в веере облачков златоперистых. Прохладой, тишиной, нежностью потянуло. Воробьи оживились. Дворник мел улицу. Пахло прелестным чем-то, вдалеке пролетка зашумела. Я легла на подоконник — и заплакала. Так лежала, и мне нравилось, что никого нет, я одна. Солнце подымалось, стало пригревать мне голову. Я вздохнула, отерла платочком слезы, двинулась к постели.
В приотворенную дверь я увидала — столь знакомый! — красный бархатный диван турецкий, там обычно спал Маркуша. А теперь сидел, в ночной сорочке, в одеяле, подперев руками голову. Меня резнуло что-то. Я вошла. Тут тоже было полусумрачно от штор, стояли книги и лежал медведь, на столе шахматы — в незаконченном бою.
Маркуша поднял голову. Я приостановилась.
— Ты что… не спишь?
— Нет.
Он помолчал, взял папироску, закурил. Только сейчас заметила я, как он возмужал, и бородой оброс, бледней стал. Он выглядел совсем уж зрелым.
— Какой у тебя странный взгляд…
— Да? Разве? — Он как будто поперхнулся. — Я слышал… ты там… плакала.
— А ты чего не спишь?
Я вдруг как будто рассердилась. Мне неприятно было, что он видел мои слезы.
Он усмехнулся.
— Я не сплю, ты плачешь…
— Ах, это все пустое. Вот мы с тобой бабы…
Он взволновался.
— Нет, видишь ли, не пустое… это, разумеется, не зря… Если не сплю… а ты вот плачешь… неизвестно отчего, то это не… не то… Да, в сущности, я понимаю. Дело очень просто. Ты… я… ну, одним словом… ты меня… я, конечно, вовсе для тебя… И очень ясно…
Голос у него прервался, и он побелел еще. Стал зажигать новую папиросу — не с того конца. Мне сразу сделалось смешно, внезапно ощутила я в себе силу и свежесть, само тело мое показалось легким, как тогда, на эстраде — и я бросилась к Маркуше.
— Фу, какой чудак, ну слушай, ну Маркушка, ты совсем чудной…
Я его целовала и ласкала в неожиданном подъеме. Он смутился. Недоверчивость, и робость были в его взгляде. Все-таки он потеплел.
— Позволь, ну как же так… ну почему… Но ты должна же знать…
Ах, я отлично знала все, и отлично понимала, я не знаю только и теперь, была ли тогда искренна, вполне, или на меня нашло что-то, накатило. Бог разберет. И быть может, в мои вины впишет Он и это утро, когда я прельщала призрачным прельщеньем бедного Маркушу, верного и чистого моего друга: может быть, все может быть. Но тогда я не могла иначе чувствовать, и утешала, успокаивала его с нежностью, меня же самое вводившей в изумление.
IX
Не знаю, успокоила ли я Маркушу. Во всяком случае, он стал повеселей. А про себя я даже не могу сказать, была тогда я весела, грустна — это не те слова. Выдавались минуты — впадала в восторг. А потом вдруг тоска. Мне мерещилось тогда, что все мы: я, Андрей, Маркуша — ореченные.
Я выезжала, как и прежде, и бывала у Александра Андреича. С Маркушей об этом не заговаривала, если же он начинал, то я смеялась, целовала его, была ласкова.
Когда подошло время уезжать в деревню, вдруг решила: ну, пока не еду. Надо еще здесь побыть. С Маркушей рассуждала ясно. Доказала, что в деревне мне сейчас решительно нет дела, что Андрюша уж порядочный, здесь же, до конца сезона, раза два предстоит петь. Маркуша, разумеется, не возражал.
Я ласково везла Андрюшу на вокзал, дразнила и смешила в купэ поезда стоявшего, и так же ласково, предательски покинула, в последнюю минуту — улизнула за спиною няньки. Помню, отошел их поезд в светлую голубизну мая, я платочком помахала высунувшемуся Маркуше, медленно, но и легко прошла перроном к выходу — меж мужиков и баб, кондукторов, носильщиков, в огромной своей шляпе, белом платье, поколыхивая зонтиком нарядным — я шла, как существо иного мира, и я это знала, мне приятно было, что на меня смотрят с завистью, мужчины — с благосклонностью. Мне нравилось всем нравиться, вызывать удивление, недоумение, любовь.
Села на лихача, покатила Замоскворечьем с нежной зеленью садов, длинными заборами, скучными особняками, красными громадами церквей барочистых. Мягко шины прыгали. Я развалилась, заложивши ногу за ногу, вдыхала смесь нежно-благоуханного с запахом бакалеи и лабаза. Кричали пестро трактирчики вывесками красно-синими и желтыми. Промелькнула решетка чугунная у шестой гимназии, над зеленью проплыла стая золотых, на лазури вечерней горевших куполов Кадашей, и по каменному мосту мой извозчик ехал шагом. Вечные рыболовы в мелкой, мутной, быстро текучей Москва-реке! И купальни, дети, бабы, голыши на откосах – направо же Кремль, туманно-златоглавый, в легенькой кисее пыли, с башнями зубастыми и плосколицыми дворцами.
Читать дальше