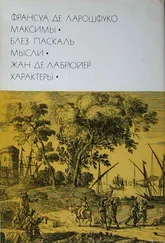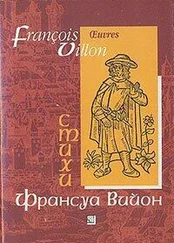Кара за неблагодарность не заставила себя ждать. По неопытности заблудившись в лесу, я, как и предсказывал Лопес, попал в плен к отрядам мускогульгов и семинолов. Увидев мою одежду и пернатый головной убор, они сразу признали во мне натчеза. Меня связали, но некрепко, снисходя к моей юности. Симаган, вождь отряда, спросил, как меня зовут, и я ответил: «Мое имя Шактас, я сын Уталисси, сына Миску, которые сняли сотню с лишним скальпов с мускогульских воинов-героев». Тогда Симаган сказал: «Возрадуйся, Шактас, сын Уталисси, сына Миску: мы сожжем тебя в самом большом нашем селении». — «Да будет так!» — воскликнул я и затянул песнь смерти.
Я был пленником и все-таки с первых дней не мог не восхищаться своими врагами. Мускогульги и особенно их союзники семинолы всегда веселы, благожелательны, довольны жизнью. Поступь их легка, они прямодушны и обходительны. Очень речисты, язык у них плавный и гармоничный. Даже и дряхлые сахемы не утрачивают бесхитростной жизнерадостности: так старые птицы наших лесов сливают старинные свои напевы с новыми песнями потомков.
В женщинах, сопровождавших отряд, моя юность будила нежное сострадание и ласковое любопытство. Они расспрашивали меня о младенческих моих годах, о матери, даже о том, подвешивала ли она мою мшистую колыбель к цветущей кленовой ветви и укачивал ли меня ветерок подле гнезда с птенцами. Потом сыпались вопросы о моих сердечных делах: им надо было знать, видел ли я во сне белую косулю и нашептывала ли мне древесная листва в сокровенной долине, что пришла пора любить. Я с равным чистосердечием отвечал и родительницам, и дочерям, и женам воинов, я им говорил: «Вы сочетаете в себе все обольщения дня, и ночь любуется вами, словно каплями росы. Мужчина рождается из вашего лона, дабы пить молоко ваших сосцов и поцелуи ваших уст; вам ведомы магические слова, исцеляющие всякую горесть. Так говорила та, что даровала мне жизнь и уже вовеки не увидит меня. И еще она говорила, что девственница — это таинственный цветок, который произрастает в заповедных местах».
Эти хвалебные речи нравились женщинам, они осыпали меня дарами, приносили кокосовое молоко, кленовый сахар, сагамите [8] Маисовые лепешки.
, медвежьи окорока, бобровые шкуры, украшения из раковин, мшистые подстилки. Они пели и смеялись со мной, а потом плакали при мысли, что меня сожгут на костре.
Однажды вечером я сидел вместе с приставленным ко мне стражем у Костра войны на опушке леса, где мускогульги разбили стоянку. Внезапно я услышал шуршание одежды, шелест травы, и у костра рядом со мной села женщина в небрежно накинутом покрывале. По ее щекам катились слезы, на груди поблескивал золотой крестик. В лице, правильном и прекрасном, было что-то неизъяснимо чистое и вместе пылкое, мгновенно пленявшее душу. При этом все в ней дышало прелестью, в глазах светилась живая чувствительность, смешанная с глубокой печалью, улыбку нельзя было назвать иначе, как небесной.
Я подумал, что она Дева последней любви — дева, которую посылают пленному воину, дабы усладить его предсмертные часы. Убежденный, что так оно и есть, я обратился к ней, запинаясь от волнения, идущего, однако, совсем из иного источника, нежели страх перед сожжением: «Дева, ты достойна первой любви и не создана для последней. Чувства, населяющие сердце, которое скоро перестанет биться, слишком непохожи на твои. Возможно ли сочетать жизнь и смерть? Ты лишь заставишь меня тщетно сожалеть о скоротечности моих дней. Пусть другой будет счастливее, чем я, пусть долгим окажется объятие, которое соединит дуб и лиану».
И вот что я услышал в ответ; «Но я вовсе не Дева последней любви. Скажи, ты христианин?» Я ответил ей, что не предал богов родного очага. «Как мне жаль, что ты жалкий язычник! — воскликнула она. — Моя мать крестила меня, мое имя Атала, я дочь Симагана с золотыми браслетами, вождя этого отряда. Мы идем в Апалачиколу, там тебя сожгут». И с этими словами Атала встала и ушла.
Тут Шактасу пришлось прервать рассказ. Воспоминания толпой обступили его, из потухших глаз по морщинистым щекам потекли слезы — так два источника, соседствующих в непроглядном подземном мраке, изливаются в струях, что сочатся меж скалистых утесов.
— Видишь, сын мой, — заговорил он наконец, — как далека от Шактаса мудрость, а ведь он слывет мудрецом. Увы, дорогое чадо, даже и незрячие глаза все еще способны проливать слезы. Прошло несколько дней, и что ни вечер дочь сахема приходила побеседовать со мной. Сон уже не смежал мне веки, образ Атала стал так же неразлучен со мной, как память о земле, где погребены мои предки.
Читать дальше