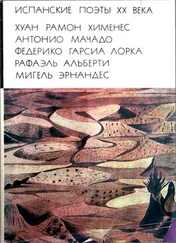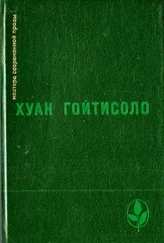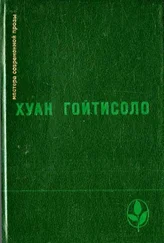Платеро при каждой вспышке вздрагивал, синий, лиловый, красный от летучего света, в волнах которого то росла, то съеживалась на холме его тень и мерцали, испуганно глядя на меня, большие черные глаза.
Когда же из далекого моря голосов, как венец всего, в звезды ввинчивалась золотая корона крепости, раскручивая гулкий гром, от которого женщины закрывали глаза и затыкали уши, Платеро сквозь виноградные лозы кидался как одержимый, голося, к невозмутимо темным соснам.
Мне захотелось, по прибытии в Уэльву, чтобы Платеро увидел Летний сад... Медленно поднимаясь, мы бредем вдоль ограды, в даровой тени платанов и акаций, все еще пышных. Шагу Платеро вторят широкие плиты, блестя глазурью полива, то подсиненной небом, то заснеженной цветами, которые пахнут, размокая, смутно и тонко.
Как душисто дышит сад, тоже пропитанный влагой, сквозь моросящий плющ решетчатых просветов! Внутри царят дети. В их белом водовороте плывет, оглушая красками и бубенцами, прогулочный возок с лиловыми флажками и зеленым козырьком; дымит пароходик торговца, весь золотой и гранатовый, с унизанной орехами оснасткой; девушка с воздушными шарами несет летучую гроздь зеленых, голубых и алых виноградин; усталый вафельщик изнемогает под тяжестью красного лотка... В небе сквозь густой, уже тронутый вкрадчивой осенью шатер зелени, где заметней стали кипарисы, просвечивает желтая луна в розовых облаках...
Едва мы входим в ворота, как возникший там синий человек с желтой тростью и большой серебряной луковицей на цепочке говорит:
— Ослу нельзя, сеньор, не дозволяется.
— Ослу? Какому ослу? — Я шарю глазами вокруг Платеро, привычно забыв о его животной наружности.
— Как это какому, сеньор, как это какому!..
Реальность вернулась, и поскольку Платеро как ослу не дозволяется, мне как человеку не хочется — и я бреду с ним дальше вдоль ограды, гладя его и говоря о постороннем...
Платеро осушил ведро с водой и звездами и праздно побрел меж высоких подсолнухов к себе в кошошню. Я ждал на беленом порожке, окутанный теплым запахом гелиотропов.
Над навесом, сырым от сентябрьских изморосей, издалека, с дремотных лугов, тянуло крепким сосновым духом. Черная туна, как огромная курица, снесшая золотое яйцо, выронила на холм луну.
Я сказал луне:
...Ма sola
lia questa luna in ciel, che da nessuno
cader fu vista fai se non in sogno [13] ...Но лишь одна луна над нами, и никто не видел ее паденья, кроме как во сне (итал.) .
.
Платеро пристально взглянул на луну и встряхнул ухо, с мягким плотным звуком. Удивленно взглянул на меня и встряхнул второе...
Я вышел напоить Платеро. Неслышная ночь, вся в дымных облаках и звездах, без конца проносила, где-то высоко над тишиной двора, тонкие пересвисты.
Утки. Они летят вглубь земли, уходя от морской бури. Временами, словно снижаясь или нас поднимая, звучат еле слышные крылья и клювы, как в поле, порой, ясно звучат слова того, кто уже далек...
Платеро время от времени перестает пить и поднимает голову, как я, как женщины Милле [14] Милле Жан-Франсуа (1814—1875) — французский живописец и график.
, к звездам, с безмерной кроткой тоской...
Она была отрадой Платеро. Едва завидя в сирени белое платьице под соломенной шляпой, заслышав капризное: «Платеро! Платери-и-ильо!» — осел неистово рвался с привязи и прыгал, как ребенок, и ревел как бешеный.
Со слепой доверчивостью она топталась под ним, пинала ножками, совала маленькую, как цветок, ладошку в розовую пасть, забронированную желтыми зубищами, или, хватаясь за уши, которые он нарочно ей подставлял, ласково звала его на все лады: «Платеро! Платерильо! Платерито! Платерете!»
За те долгие дни, когда в белой своей колыбели она плыла вниз по воде, навстречу смерти, никто не вспомнил о Платеро. В бреду она тоскливо звала: «Платери-и-ильо!» Из полутемного, полного вздохами дома долетал порой дальний жалобный голос друга. Грустное лето...
Как пышно господь разубрал тебя, день похорон! Догасал сентябрь, такой же золотой и розовый. И долго кладбищенский колокол уплывал в распахнутый закат, дорогой в рай. Я вернулся задворками, одинокий и сникший, вошел черным ходом и, сторонясь людей, побрел в конюшню и сел задумчиво наедине с Платеро.
Темна и зловеща в этот лиловый час вершина холма, где, свистя в дудку, чернеет на зелени заката пастушонок и дрожит вечерняя звезда. Среди цветов, которые уже неразличимы,—лишь запах, густея, вновь высветляет их из тьмы,— грустят, не двигаясь, плакучие бубенчики отары, разбредшейся на подходе к селенью по знакомой низине.
Читать дальше