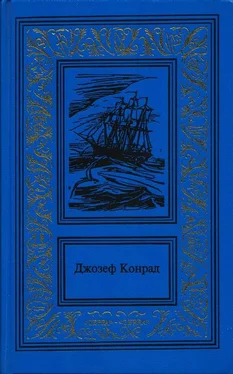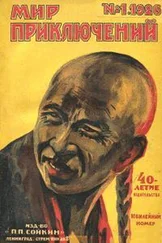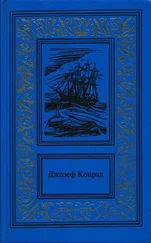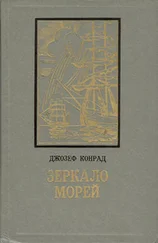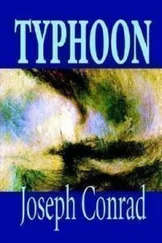Ни один не проронил ни слова. Сознание постепенно возвращалось к нему; легкая дрожь пробегала по его неподвижному телу и играла вокруг его рта. Она откинула голову назад и впилась в его глаза взглядом, составляющим могущественнейшее оружие женщины. Такой взгляд волнует сильнее, нежели самое тесное соприкосновение; он опаснее удара кинжалом, потому что тоже разлучает душу с телом, но оставляет телу жизнь, и оно становится игрушкой страстей и желаний; этот взгляд окутывает все тело и в то же время проникает в сокровеннейшие глубины существа. Он приносит человеку поражение в тот самый миг, когда тот полон безумного ликования от только что одержанной победы. Он имеет одинаковое значение как для человека лесов и морей, так и для того, кто живет в еще более опасной пустыне домов и улиц. Тот, кто ощутил в своей груди страшный восторг, пробуждаемый таким взглядом, живет одним только настоящим, и оно превращается для него в рай; он забывает о прошлом, — оно было для него страданием; он не думает о будущем, — оно, может быть, принесет ему гибель. Он мечтает вечно жить в озарении этого взгляда. Это взгляд сдающейся женщины.
Он понял, и точно с него спали его невидимые оковы; он бросился к ее ногам с радостным криком, обхватил ее колени, спрятал голову в складках ее платья и лепетал бессвязные слова любви и благодарности. Никогда еще он не испытывал такого чувства гордости, как в эту минуту, когда лежал у ног женщины, наполовину принадлежавшей по крови к племени его врагов. Она же стояла в глубокой задумчивости и с рассеянной улыбкой играла его волосами. Дело было сделано. Мать ее оказалась права. Этот человек был ее рабом. Глядя на него коленопреклоненного, она испытывала глубокую, жалостливую нежность к человеку, которого даже в мыслях привыкла называть владыкой жизни. Она подняла глаза и печально взглянула на южный небосклон, под которым отныне должен был пролегать их жизненный путь — ее и человека у ее ног. Он сам называл ее светом своей жизни. Она будет ему и светом, и мудростью; она будет его силой и величием; но вдали от людских взоров она прежде всего будет его единственной и постоянной слабостью. Истая женщина! Со всем дивным тщеславием своего пола она уже мечтала создать божество из глины, лежавшей у ее ног, божество, перед которым преклонились бы все остальные. Сама же она довольствовалась тем, что видела его таким, каким он был сейчас, и чувствовала, как он дрожит от малейшего прикосновения ее легких пальцев. Она грустно смотрела на южное небо, а на ее твердо очерченных губах как будто играла улыбка. Но разве можно что-нибудь как следует разглядеть в неровном свете сторожевого костра? То могла быть улыбка торжества, или сознания своей силы, или нежной жалости, или, может быть, даже любви.
Она ласково заговорила с ним, и он поднялся на ноги и обвил рукой ее стан со спокойным сознанием права собственности; она же положила голову к нему на плечо, чувствуя себя в безопасности от всего на свете в покровительственном объятии этой руки. Он принадлежал ей со всеми своими недостатками и достоинствами. Его сила и храбрость, удаль и смелость, его первобытная мудрость и дикая хитрость — все это принадлежало ей. Когда они медленно переходили от красного сияния костра под серебряный дождь лучей, падавших на поляну, он склонил голову к ее лицу, и в его глазах она прочла мечтательное упоение безграничного блаженства, вызванного тесным соприкосновением с ее стройным телом, прижимавшимся к нему. Они шли, ритмично раскачиваясь, удаляясь в широко раскинувшуюся тень леса, как бы сторожившего их счастье в своей торжественной неподвижности. Очертания их фигур расплылись в переменной игре света и тени у подножия могучих деревьев, но звуки нежных слов звенели над безлюдным участком, замирали, наконец замолкли совершенно. Умирающий ветерок со вздохом глубокой скорби пронесся над землей; в наступившем вслед за тем безмолвии земля и небо замерли в печальном созерцании человеческой любви и человеческой слепоты.
Они медленно вернулись к огню. Он сделал для нее сиденье из сухого хвороста, растянулся у ее ног, положил голову к ней на колени и весь отдался мечтательному счастью настоящего. Их голоса раздавались то громче, то тише, нежные или оживленные в зависимости от того, говорили ли они о своей любви, или о своем будущем. С помощью нескольких слов, искусно вставляемых время от времени, она давала направление его мыслям, и он изливал свое счастье в потоке страстных или нежных, серьезных или грозных речей, смотря по вызванному ею настроению. Он говорил ей о своем родном острове, где не знали ни мрачных лесов, ни илистых рек. Он рассказывал об его полях, спускающихся уступами, о светлых журчащих ручейках, бегущих по склонам высоких гор, несущих жизнь полям и радость земледельцам. Он поведал ей также о горной вершине, одиноко возвышающейся над лентой лесов, которой ведомы были тайны проносящихся мимо нее облаков и которая служила жилищем таинственному духу-покровителю его дома, гению его племени. Он говорил ей о широких горизонтах, овеваемых вихрями, со свистом проносящимися высоко над вершинами огнедышащих гор. Он рассказывал о своих предках, в незапамятные времена завоевавших тот остров, которым ему предстояло править. Глубоко заинтересованная, она близко нагнулась к нему, а он, слегка поглаживая ее длинные, густые косы, вдруг почувствовал желание заговорить с ней о любимом им море, рассказал ей об его немолчном говоре. Он прислушивался к этому говору еще в детстве, силясь разгадать его тайное значение, которого не постиг еще ни один из живущих на земле. Рассказал о его восхитительном блеске, о его безрассудном и капризном бешенстве, о том, как меняется его поверхность, оставаясь все такой же чарующей, в то время, как глубина его всегда одинаково холодна и жестока и исполнена мудрости всех погубленных ею жизней. Он рассказал ей о том, как его чары на всю жизнь порабощают себе людей и как потом оно поглощает их, несмотря на их преданность, потому что гневается на них за то, что они страшатся его загадки, которую оно само же скрывает от всех, даже от тех, кто всего сильнее любит его. Под звук его речей Найна все ниже и ниже склоняла к нему голову. Ее волосы падали ему на лоб, ее дыхание овевало его чело, ее руки обвивали его тело. Нельзя было быть ближе друг к другу, чем они, но все же она скорее угадала, нежели поняла значение заключительных слов, произнесенных им после некоторого колебания: «Море, о Найна, подобно сердцу женщины!» После слов этих, сказанных слабым шепотом, последовало многозначительное молчание.
Читать дальше