2
Отец мой угасал, увядал прямо на глазах.
Скорчившись среди огромных подушек, с дико взъерошенными космами седых волос, он вполголоса разговаривал сам с собой, всецело погрузившись в какие-то запутанные внутренние дрязги. Он словно бы распался на множество враждующих личностей с полностью противоположными интересами, до того шумно он спорил с собою — то настойчиво, страстно вел переговоры, доказывая и упрашивая, то как бы председательствовал на многолюдном собрании несогласных друг с другом лиц, которых ревностно и красноречиво пытался примирить. Но всякий раз эти шумные, темпераментные ассамблеи рассыпались проклятьями, оскорблениями и руганью.
Потом пришел период некоторой умиротворенности, внутреннего успокоения, благостной безмятежности души.
Вновь на кровати, на столе, на полу разложены были толстые фолианты, и какое-то бенедиктинское спокойствие работы заполняло освещенное лампой пространство над белой постелью, над его склоненной седой головой.
А когда поздним вечером возвращалась из лавки мама, отец оживлялся, подзывал ее и с гордостью показывал великолепные яркие переводные картинки, которыми он старательно оклеил все страницы гроссбуха.
Тогда-то мы и заметили, что отец со дня на день стал уменьшаться, словно орех, усыхающий внутри скорлупы.
Этому отнюдь не сопутствовал упадок сил. Напротив, он стал подвижнее, состояние его здоровья и настроение даже как бы улучшились.
Теперь он нередко громко и заливисто смеялся, прямо-таки заходился от смеха, а то целыми часами стучал по кровати и на разные голоса отвечал себе: «Пойдите». Временами отец слезал с постели, забирался на шкаф и, скрючившись под потолком, копался в пыльных кучах старого хлама.
Иногда он ставил рядом два стула и, опершись руками на спинки, повиснув на них, размахивал ногами; глаза у него при этом сияли, и он искал в наших лицах признаков удивления и восторга. С Богом он вроде бы совершенно примирился. Изредка ночью в окне спальни появлялось залитое темным пурпуром бенгальского света лицо бородатого Демиурга и с минуту благожелательно разглядывало спокойно спящего отца, мелодичный храп которого, каялось, блуждал по неведомым просторам страны снов.
В долгие полутемные дни под конец зимы отец, случалось, целыми часами просиживал в заваленных всяким старьем чуланах и что-то там упорно выискивал.
Нередко во время обеда он не выходил к столу, и маме приходилось долго кричать: «Иаков!» — и стучать ложкой по тарелке, прежде чем он вылезал из какого-нибудь шкапа, весь в пыли, облепленный клочьями паутины, с отсутствующим взглядом, погруженным в ведомые только ему одному сложные проблемы, которыми вечно были заняты его мысли.
Иногда он вскарабкивался на карниз и недвижно замирал напротив большого чучела грифа, висевшего на противоположной стене. Неподвижный и скрюченный, с затуманенным взглядом и хитрой усмешкой, отец мог часами так сидеть и молчать, чтобы вдруг при чьем-нибудь появлении замахать руками, как крыльями, и запеть петухом.
Мы перестали обращать внимание на его чудачества, в которых со дня на день он запутывался все больше и больше. Словно бы лишенный телесных потребностей, по неделям не принимая пищи, он с каждым днем все глубже погружался в какие-то невразумительные темные приключения, которые мы уже вовсе перестали понимать. Недосягаемый для наших уговоров и просьб, он отвечал нам обрывками своего внутреннего монолога, и ничто внешнее не могло прервать его течения. Вечно озабоченный, болезненно оживленный, с пятнами лихорадочного румянца на впалых щеках, он не замечал и не видел нас.
Мы привыкли к его безобидному присутствию, к тихому лепету, к какому-то детскому, погруженному в себя щебетанию, трели которого звучали как бы на окраине нашего времени. Уже тогда он исчезал, иногда на несколько дней, в забытых закоулках дома, и его невозможно было доискаться.
Постепенно его исчезновения перестали нас волновать, мы к ним привыкли, и когда через много дней он опять появлялся, став на несколько дюймов короче и еще сильнее усохнув, это уже не занимало надолго нашего внимания. Мы попросту перестали принимать его в расчет, так сильно он отдалился от всего человеческого, от реальности. Он постепенно отлучался от нас, нить за нитью порывая связи, соединявшие его с людьми. То, что еще оставалось от него — тщедушная телесная оболочка да горстка бессмысленных чудачеств, — могло однажды исчезнуть так же не замеченное никем, как и та серая горстка мусора в углу, которую Аделя ежедневно выносила на помойку.
Читать дальше
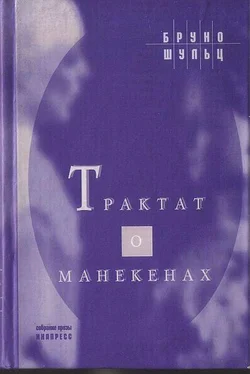





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



