Из мглы лица с трудом вылезло выпуклое бельмо глаза, подманивая меня игривым подмигиванием. Я чувствовал к нему неодолимую симпатию. Он зажал меня между коленями и, проворно тасуя перед моими глазами фотографии, стал показывать изображения голых мужчин и женщин в странных позах. Я стоял, прижавшись к нему боком, и далеким, невидящим взглядом всматривался в эти нежные человеческие тела, как вдруг флюид непонятного возбуждения, от которого внезапно помутнел воздух, дошел до меня и пробежал по телу дрожью беспокойства, волной мгновенного озарения. Но тем временем облачко улыбки, вырисовавшееся под мягкими красивыми усами Эмиля, завязь вожделения, от которого напряглась пульсирующая жилка на его виске, сила, на минуту соединившая его черты в единое целое, вновь вернулись в небытие, и лицо опять исчезло, забыло про себя, развеялось.
1
Уже в ту пору наш город все глубже погружался в хроническую серость сумерек, обрастал по краям лишайниками тени, пушистой плесенью и мхом цвета железа.
Едва высвободившись из пеленок бурых дымов и мглы раннего утра, день сразу же склонялся к низким янтарным вечерам, становился на мгновение прозрачным и золотистым, как темное пиво, чтобы затем быстро сойти под расчлененные фантастические своды цветных просторных ночей.
Мы жили на рыночной площади в одном из тех темных домов с голыми и слепыми фасадами, которые невозможно отличить друг от друга.
Это приводило к постоянным недоразумениям Достаточно было нечаянно войти в чужие сени, и ты тотчас вступал в настоящий лабиринт незнакомых комнат, лестниц, нежданных дверей, ведущих в какие-то неведомые дворы, и начальная цель путешествия забывалась; только через много дней, заполненных блужданиями по бездорожьям странных, запутанных приключений, в какое-нибудь мутно-серое утро тебе с угрызениями совести вспоминался родительский дом.
Наша квартира, заставленная огромными шкафами, глубокими диванами, бледными зеркалами и дешевыми искусственными пальмами, все больше приходила в запустение из-за небрежности мамы, целыми днями просиживавшей в лавке, и нерадивости тонконогой Адели, которая безнадзорно проводила время перед зеркалами за нескончаемым туалетом и оставляла повсюду очески, гребешки, туфельки и корсеты.
Число комнат у нас в квартире постоянно менялось, потому что никто не помнил, сколько из них сдано постояльцам. Часто бывало, что, открыв случайно какое-нибудь из этих забытых помещений, мы обнаруживали, что оно пусто, жилец давно съехал, а в ящиках комода, которые месяцами никто не выдвигал, я делал неожиданные находки.
В нижнем этаже жили приказчики, и иногда среди ночи нас будили их стоны, вызванные сонным кошмаром. Зимой на дворе еще стояла глухая ночь, а отец уже спускался к ним, распугивая свечой стаи теней, разбегавшихся по полу и стенам, — шел пробуждать заходившихся тяжелым храпом людей от твердого, как камень, сна.
При свете оставленной свечки они лениво вылезали из грязных постелей, вытягивали, сидя на кроватях, босые уродливые ноги и, держа в руках носки, с минуту еще наслаждались зевотой — долгой зевотой, сопровождающейся сладострастными, мучительными, как при тяжелой рвоте, судорогами нёба.
В углах неподвижно сидели большие тараканы, казавшиеся еще громаднее из-за теней, которыми горящая свеча наделяла все предметы в комнате и которые не отделялись от тараканов и тогда, когда какое-нибудь из этих плоских безголовых туловищ бросалось бежать неестественным паучьим бегом.
Здоровье отца стало ухудшаться. Уже в первые недели той ранней зимы бывало, что он целыми днями проводил в постели, обложенный пузырьками, пилюлями и гроссбухами, которые ему приносили из лавки. Горький запах болезни оседал на дне комнаты, обои в которой загустевали темным сплетением арабесок.
Вечерами, когда мама возвращалась из лавки, отец бывал раздражителен и сварлив, выговаривал ей за неточности в подсчетах, разгорался лихорадочным румянцем и доходил до полной невменяемости. Помню, проснувшись однажды поздней ночью, я увидел, как он, босой, в ночной рубашке, бегал по кожаному дивану, демонстрируя таким способом ошеломленной маме свое возмущение.
В иные же дни он бывал спокоен, сосредоточен и целиком погружался в свои книги, блуждая в глубоких лабиринтах запутанных подсчетов.
При свете коптящей лампы я вижу, как он сидит на корточках среди подушек под большим резным балдахином кровати, отбрасывая на стену громадную тень, и покачивается в такт безмолвным размышлениям.
Читать дальше
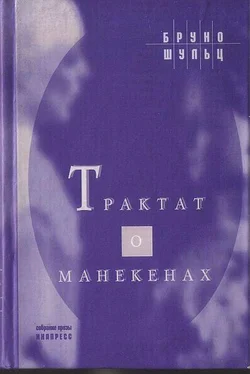





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



