Я слушаю его долго и внимательно, лишь изредка возникает у меня желание вмешаться и сказать, что я об этом думаю. Да, желание возникает, но я ничего ему не скажу, я никого не прерываю и никого не поправляю, а менее всего страдальца, рассказывающего о своих страданиях. Куда бы я зашел, если б поступал иначе? Тогда и рассказов бы не было! А ведь каждый по-своему и в определенный час искренен и правдив, и его следует выслушать и принять. Поэтому в топоте уходящего каравана я различаю тяжкий и смутный завет бывшего «маленького султана Герцеговины» и долго размышляю о людях такого рода. Они никогда ни с чем не примиряются. И после смерти словно бы что-то остается от их страсти и желания любой ценой жить и влиять на жизнь живых людей.
Люди одолевают меня не только зовом, навязчивым смехом или парадными выездами и конским топотом под окнами и используют не только моральное давление своих вошедших в историю имен, вес и важность своей личности, да и не все они принадлежат одной эпохе и не все близки друг другу судьбою или происхождением. Они отовсюду и самые разные. Объединяет их лишь то, что время от времени они собираются вокруг моего сараевского обиталища и оставляют здесь свой след, невидимый, но реальный; след настолько осязаемый и сильный, что он способен нарушить все мои утренние планы, любыми способами пытаясь подчинить себе мои мысли и возбудить воображение. Вот, например, я слышу беззвучные шаги в коридоре, и ко мне с чувством собственного достоинства входит, распространяя вокруг запахи своего утреннего туалета, человека
Это барон Дорн. (Как по уговору, сплошь титулованные особы!) Когда-то, сразу после начала австрийской оккупации Боснии, он служил здесь целых четыре года приставом Краевого правительства [32]. Был референтом «по охоте и охотничьим лицензиям», или, как ехидничали его коллеги, «референтом по охотничьим сказкам».
Он родом из Штирии, старого дворянскою племени. Щеголеватый и лощеный, при ходьбе всегда несколько устремленный вперед, с непременной тростью в одной и шляпой и перчатками в другой руке. Высокий полный мужчина, держится с достоинством, на австрийский манер, смуглый, с тонкими вислыми усами и редкой бородкой, точно в неудачной карнавальной маске. Южный тип его почти цыганского лица нарушают синие, с отсутствующим выражением глаза. Взгляд этих глаз меняется и целиком выдает суть человека своим чистым, то испуганно молящим, то преувеличенно суровым и притворно строгим выражением. Тридцатишестилетнему мужчине полагалось бы занимать более высокую ступень на служебной лестнице, однако — сразу следует сказать — он был незадачливым отпрыском многочисленного семейства, где гладкая военная, статская или духовная карьера давно вошла в традицию. Он стал питомцем военного училища, однако, не успев получить звездочки, ловким манером был удален из армии. Начинать духовную карьеру было поздно, о дипломатической службе и думать не приходилось. Попытка остаться в родовом имении и заняться хозяйством также не удалась. В конце концов его послали служить «в оккупированные области», лишь бы куда-нибудь пристроить и чем-нибудь занять, а Босния с Герцеговиной в те поры могли всех принять и всех выдержать. Но и тут у него оказалось мало шансов прижиться и выдвинуться, потому что было совершенно невозможно доверить ему какое-либо дело, требовавшее хотя бы крупицу логики, педантичности и особенно правдивости. Главная же причина и единственное объяснение всех неудач барона, говоря без околичностей, заключались в его врожденной, детской, но чудовищной и неискоренимой лживости.
Многие люди лгут на своих должностях, в разных званиях и на разных постах, но лгут обдуманно и по необходимости, ложь выручает их в стесненных обстоятельствах, являясь сродством, своеобразным оружием в борьбе интересов и честолюбий. Здесь же обратный случай. Лощеный добродушный барон сам становился средством, которым ложь пользовалась бесцеремонно и жестоко, позоря его и причиняя ему непоправимый ущерб. Он врал безо всякой корысти, наивно, помимо своей воли и вопреки своей воле, врал точно маленький ребенок, не зная конца и меры, но с азартом игрока, с неудержимостью алкоголика. И это лишало несчастного барона всякого авторитета в чужих и всякого уважения в собственных глазах, закрывало ему все пути, делало для него невозможной счастливую жизнь в семье и обществе, из-за этого над ним, иногда грубо и откровенно, иногда за спиной и подло, смеялись окружающие его люди, даже те, кто во сто крат его хуже. Он слеп и глух, однако отнюдь не слеп к краскам и формам, не глух к звукам и голосам, — он слеп и глух к правде реальной жизни и тем формам, в каких она выявляется. Разница лишь в том, что если к слепым и глухонемым от рождения люди испытывают жалость и стараются помочь им в чем только можно, то этот несчастный и его недуг вызывают у них одно презрение и высокомерную насмешку. И тут ничего не поделаешь. Ибо ему не дано прозреть и увидеть грань, которая в повседневной жизни и общении людей отделяет ложь от правды, найти в себе силу на ней остановиться. А когда люди или факты обратят на нее его внимание, уже поздно, он уже лжец. Таким образом, он, по существу, не мог даже осознать свое подлинное, смешное и одновременно грустное, положение в обществе, он мог только догадываться о нем, и то лишь изредка и косвенно, никогда не находя в себе ни сил, ни возможности в полной мере его оценить, понять или изменить.
Читать дальше


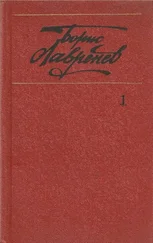
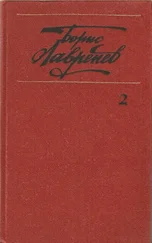
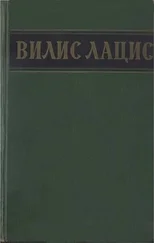



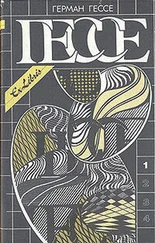
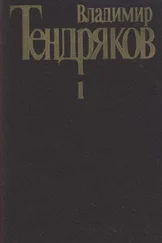
![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-thumb.webp)
![Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений - Пьесы. Роман. Эссе]](/books/422894/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie-thumb.webp)
