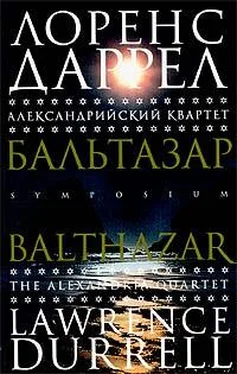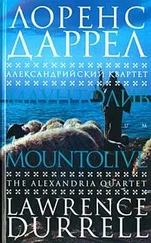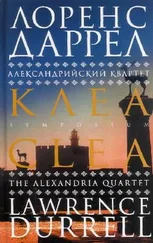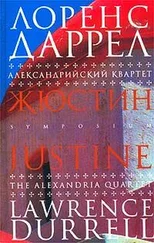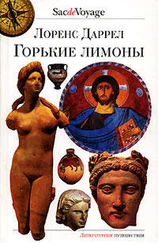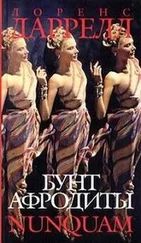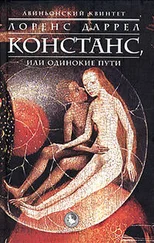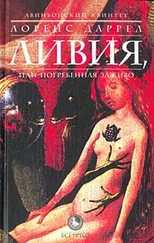Всегда найдутся тысячи способов самооправдания, но никакие уловки бумажной логики не могут отменить одного-единственного факта: я прочел все это в Комментарии, и вот я опять во власти памяти, во власти солнечных тех дней, способных вволю помучить меня теперь, — поводов к тому предостаточно, и не обо всех я догадывался раньше! Вот я иду рядом с девочкой; девочку родила Мелисса от Нессима; у Нессима с Мелиссой был роман (что, тоже «любовь», или он просто использовал ее, пытаясь побольше узнать о жене? Может статься, я и выясню — когда-нибудь); вот я иду рядом с девочкой, не спеша, по пустынным здешним пляжам, как преступник, тасуя раз за разом сколки жизни белого Города, и на душе моей такая тяжесть, что даже и голос мой течет монотонно, как бы помимо моей воли: я говорю с ней. Где полагается искать ключи к таким вот лабиринтам?
Но, конечно же, чувство вины тяготило не меня одного: Персуорден должен был чувствовать нечто похожее — как мне иначе объяснить те деньги, которые он оставил мне по завещанию, сопроводив сей дар условием: потратить их вместе с Мелиссой? По крайней мере, одна проблема разрешилась.
Я знаю: даже Клеа ощущала вину за страдания, которые мы все вместе причинили Мелиссе, — она, так сказать, взяла на себя часть ноши Жюстин. Она, так сказать, приняла чужую ответственность — потрясенная ничтожностью повода, по которому ее любовница во всеоружии вторглась в наши пределы. Именно Клеа стала тогда Мелиссе другом, советником и адвокатом и оставалась единственным ее конфидентом — до самой смерти. Самоотверженная, невинная Клеа — как быстро множится счет дуракам! Не окупается честность в делах твоих, любовь! Она как-то раз сказала Мелиссе: «Страшно так зависеть от сил, не желающих тебе блага. Постоянно думать о ком-то: будто бельмо на глазу…» Сдается мне, она имела в виду и Жюстин — в роскошном особняке в самом центре, в окружении высоких свечей и картин забытых ныне мастеров.
И еще — Мелисса сказала ей обо мне: «Он уехал, и все на свете перестало быть». Уже перед самой своей смертью. Но ведь никто не имеет права занимать такого места в чужой жизни, никто! Видите теперь, что за материал у меня для работы: на много долгих, полных страсти и ярости сеансов связи над зимним морем — с самим собой. «Она любила тебя, — снова голос Клеа, — за твою слабость — вот что ее в тебе привлекало. Будь ты сильным, ты бы отпугнул любовь, такую робкую». И напоследок, прежде чем я захлопну Комментарий, обиженный и злой на Бальтазара, одна, последняя реплика Клеа, она жжет, как раскаленное железо. «Мелисса сказала: „Ты была мне подругой, Клеа, и я хочу, чтобы ты его любила после того, как меня не станет. Спи с ним — ладно? — и думай обо мне. Бог с ней, со всей этой чертовой любовью. Разве не может одна женщина лечь с мужчиной вместо другой? Я прошу тебя переспать с ним, как раньше я просила Панагию сойти с небес и благословить его, пока он спал, — как на старых иконах“». Как это похоже на Мелиссу и как по-гречески!
По воскресеньям мы ходили с ней вместе проведать Скоби, я помню: Мелисса, в своем ярком бумажном платьице, в соломенной шляпке, улыбается, счастливая свободой — на целые сутки — от пыльного кабаре. Вдоль по Гранд Корниш — танцуют, перемигиваясь, волны на отмели, черные в красных фесках извозчики правят полудохлыми клячами, запряженными в скрипучие, ветхие «такси любви»; мы шли вдоль парапета, а они кричали нам вслед: «Такси любви, сэр-мадам! Только всего десять пиастров за час! Я знаю тихое местечко…» И Мелисса смеялась и оглядывалась на ходу — посмотреть, как блестят жемчугами на утреннем солнце минареты, как ловят ветер с моря разноцветные воздушные змеи.
Скоби чаще всего проводил воскресенье в постели, тем более что зимой он практически неизменно бывал простужен. Он покоился меж грубых простыней и к моменту нашего прихода обычно успевал заставить Абдула сделать ему «коричное притирание» (я так и не узнал, что это такое); была и еще одна привычная формальность: нужно было нагреть кирпич и положить ему к ногам, дабы они не мерзли. На голове — маленькая вязаная шапочка. Читал он очень мало и, подобно некоему древнему племени, всю свою литературу носил с собой в памяти; оставшись один, он запускал наугад в сей пыльный сундук сухую жилистую руку, и читки вслух самому себе длились порой часами. Репертуар его был довольно обширен, в основном баллады: исполнять их полагалось яростно, отбивая такт рукой. «Прощание араба с боевым конем» вышибало из него слезу, как и «Звучала арфа в залах Тары»; были там и тексты, мне до знакомства с ним совершенно неизвестные, — одно стихотворение, галопирующий ритм которого был способен в буквальном смысле слова поднять его с постели и довести аж до середины комнаты (если он читал в полную силу, конечно), он особенно любил. Как-то раз я даже заставил его списать для меня слова, чтобы на досуге повнимательнее их изучить:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу