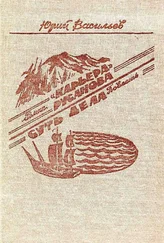— Нет.
— Она обо мне беспокоится. Она меня любит, — твердил он, подняв мокрые от слез глаза, будто стараясь что-то втолковать Скоби и сам понимая, как это неправдоподобно. — Она меня любит, — горестно повторил он.
— Но почему бы вам не написать ей из Лиссабона? — опять спросил Скоби. — Зачем было так рисковать?
— Я человек одинокий. У меня нет жены, — сказал капитан. — Не терпится отвести душу. А в Лиссабоне — сами знаете, как это бывает — друзья, выпивка. У меня там есть женщина, ревнует даже к родной дочери. Ссоры, скандалы — время бежит незаметно. Не пройдет и недели, как опять надо в море. До сих пор мне везло.
Скоби ему верил. История была слишком дикая, чтобы ее выдумывать. Даже в военное время нельзя терять способность верить, не то она вовсе исчезнет. Он сказал:
— Мне самому неприятно, что так получилось. Но ничего не поделаешь. Может, все обойдется.
— Ваше начальство занесет меня в черные списки. А вы понимаете, что это значит. Консул не даст пропуск ни одному судну, на котором я буду капитаном. Я подохну с голоду на берегу.
— В таких делах бывают упущения. Теряют списки. Может, на этом все дело и кончится.
— Я буду молиться, — сказал капитан без всякой надежды.
— Что ж, и это неплохо.
— Вы англичанин. Вы в молитвы не верите.
— Я такой же католик, как вы.
Капитан быстро поднял к нему одутловатое лицо.
— Католик? — В его голосе звучала надежда. И тут он начал просить о пощаде. Он почувствовал себя человеком, встретившим в чужих краях земляка. Он стал быстро рассказывать о своей дочери в Лейпциге, вытащил потертый бумажник и пожелтевший снимок толстой молодой португалки, такой же непривлекательной, как и он сам. В маленькой ванной стояла удушливая жара, а капитан все твердил: — Я знаю, вы меня поймете. — Он вдруг увидел, что их роднит: гипсовые статуи с мечом в кровоточащем сердце; шепот за занавеской в исповедальне; священные облачения и кровь Христова, темные притворы, затейливые обряды, а где-то за всем этим любовь к богу.
— А в Лиссабоне, — продолжал он, — меня будет встречать та; она отвезет меня домой, спрячет брюки, чтобы я не мог без нее выйти; что ни день пойдут попойки и ссоры до самой ночи, пока не ляжешь в постель. Вы меня поймете. Я не могу писать дочке из Лиссабона. Она меня так любит и так меня ждет, — он примостился поудобнее и продолжал: — В ее любви такая чистота! — И заплакал. Роднило их и покаяние и томление духа.
Это придало капитану смелости, и он решил испытать другое средство.
— Я человек бедный, но кое-что у меня найдется… — Он бы никогда не решился предложить взятку англичанину: это было данью уважения к их общей религии.
— Я очень сожалею… — сказал Скоби.
— У меня есть английские фунты. Я вам дам двадцать английских фунтов… пятьдесят. — Он взмолился. — Сто… это все, что я скопил.
— Невозможно, — сказал Скоби. Он поспешно сунул письма в карман и вышел. У двери каюты он обернулся и в последний раз взглянул на капитана: тот бился головой о бачок, и в жирных складках его лица скапливались слезы. Спускаясь в кают-компанию, где его ждал Дрюс, Скоби чувствовал на душе страшную тяжесть. Проклятая война, как я ее ненавижу! — подумал он, невольно повторяя слова капитана.
3
Письмо капитана дочке да маленькая пачка писем, найденных в кубриках, — вот и все, что нашли пятнадцать человек после восьмичасового обыска. Так обычно и бывало. Скоби вернулся в полицию, заглянул к начальнику, но кабинет был пуст, и он пошел к себе, сел под связкой висевших на гвозде наручников и стал писать рапорт.
«Нами произведен тщательный осмотр кают и багажа пассажиров, поименованных в ваших телеграммах… но он не дал никаких результатов».
Письмо к дочке в Лейпциг лежало на столе. За окном уже стемнело. Снизу, из-под двери, ползла вонь из камер; в соседней комнате Фрезер мурлыкал песенку, которую он пел каждый вечер, с тех пор как вернулся из отпуска:
Нам, признаться, дела нет
До чужих тревог и бед,
Если мы с тобой — юнцы —
Сами отдаем концы. [3] Стихи в романе переведены А. Эфрон
Скоби казалось, что жизнь бесконечно длинна. Неужели человека надо искушать так долго? Разве нельзя совершить первый смертный грех в семь лет, погубить свою душу из-за любви или ненависти в десять и судорожно цепляться за мысль об искуплении на смертном одре лет в пятнадцать? Он писал:
«Буфетчик, уволенный за непригодность к службе, сообщил, что капитан прячет у себя в ванной недозволенную переписку. Я произвел обыск и обнаружил прилагаемое письмо, адресованное в Лейпциг фрау Гренер. Оно было спрятано под крышкой бачка. Может быть, имело бы смысл разослать циркулярное сообщение об этом тайнике, так как в нашей практике он встречался впервые. Письмо было приклеено пластырем над поверхностью воды…»
Читать дальше