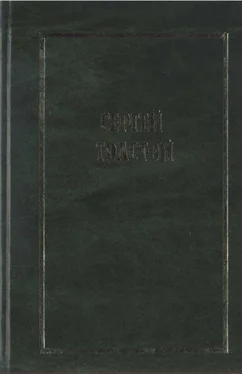— А теперь достаньте бумагу и перья, — говорила учительница, — и пусть каждый из вас напишет окончание рассказа.
В сочинениях я отличался и потому любил их, даже самый процесс писания доставлял мне удовольствие. Выйдя из своего забытья и не давая себе труда долго задумываться, я стал быстро писать. Что остается делать Варьке? Разумеется, ей следует кончить самоубийством.
Самоубийство давно уже было излюбленной темой моих размышлений. Начиная с разговоров с сестрой, пытавшейся утвердить меня в мнении, что самоубийство — это почти всегда трусость и малодушие, я укреплялся в противоположном. Малодушием я считал только то, что до сих пор еще продолжаю жить, хотя давно и глубоко уверен в бессмысленности жизни. Рано или поздно, но самоубийство представлялось мне естественным концом моего существования, как и существования всякого разумного человека. В Торжке я начал было писать даже нечто вроде рассуждения на эту тему. Между прочим, там был такой отрывок:
«…Народная мудрость говорит, что ложки дегтя достаточно, чтобы испортить бочку меда. Человеческую жизнь я, напротив, сравнил бы с бочкой дегтя, в которую влита одна ложка меду — ложка счастья. Достойно ли человека заниматься терпеливым вылавливанием этой ложки, все равно мало на что годной? Выход из этого глупого положения только один: отказ от самой жизни, то есть самоубийство. Так как не у всех людей достаточно решимости, чтобы делать для себя этот вывод, они предпочитают опьяняться разными идеями, стараются убить чем-нибудь время, забыть, что они все равно осуждены на смерть и что в итоге всех усилий она, и никто другой, ожидает их. Отчего же, раз она все равно неизбежна, раз на долгом пути к ней не ждет ничего хорошего, надо еще тащиться весь этот путь, а не спрыгнуть в пропасть, сразу отказавшись участвовать в глупой комедии, ни цель, ни смысл которой нам не понятны? Трусость, только подлая трусость останавливает нас, удерживает от этого, как бы и чем бы мы себя ни обманывали…»
Так писал я, с полным убеждением в своей правоте, два года назад в Торжке, тринадцати лет, в пору наибольшего своего морального одичания и одиночества.
Теперь здоровая жизнь, заполненная систематическими занятиями, общение с товарищами отвлекали от подобных мыслей. В сущности, мне было хорошо и не на что было жаловаться, но если я задавал себе вопрос о конечной цели всего этого, ответ был все тот же. В этом отношении ничто не изменилось…
Перо быстро скользило по бумаге. Моя, уже моя, а не чеховская, Варька выскакивала на улицу из пустой избы, преследуемая звучащим в ушах детским плачем. Клочки унылых, безрадостных воспоминаний мешались в ее мозгу с безрадостным настоящим. Она ни на что не могла рассчитывать, ничего ожидать: вечно будет скрипеть эта люлька, вечно надо сидеть, не засыпая, повторяя все одни и те же движения. И вот она бежит, скользя по грязи, едва не падая, сквозь беззвездную осеннюю ночь. Перед ней — обрыв, дальше некуда. Внизу холодная и мутная река, вздувшаяся от непрестанных дождей. Но ей уже все равно, лишь бы дальше от этого вечного плача, этой ненавистной жизни. Она на мгновение останавливается, и позади нее слышится снова этот надсадный детский крик, будто преследующий ее по пятам. Больше выбирать не из чего. Отчаянно взмахнув руками, она бросается вперед. И некому услышать даже слабого всплеска и шороха подсохшего кустарника, опять сомкнувшегося над обрывом…
Сочинение казалось мне удачным. Я был уже уверен, что ничего иного и не могло произойти в итоге рассказа, и с увлечением торопливо исписывал страницу за страницей, как и всегда, забывая ставить запятые… Придуманный мною конец рассказа выглядел для меня настолько безошибочно убедительным, что я побаивался только одного: как бы большинство товарищей не написало того же самого.
Вместе с тем, предвкушая триумф своего произведения, я и после урока не стал никого расспрашивать о том, что они написали, и не рассказывал о том, что написал сам…
И вот звонок к первому уроку. В класс входит Марья Андреевна и кладет на стол стопку наших тетрадей и отдельных листков, размеченных кое-где, как это угадывается уже по верхней странице, красным карандашом. С первых же ее слов меня постигает разочарование:
— Ну, вот ваши сочинения. Должна вам сказать, что написали вы, большинство из вас, много, но рассказ прослушали, когда я читала, недостаточно внимательно. Я не дочла вам всего трех строчек, и все было уже совершенно ясно. Варька у Чехова смотрит на ребенка и вдруг совершенно ясно понимает, кто ее враг, кто не дает ей заснуть. Враг — ребенок. Я даже нарочно подчеркнула эти слова, когда читала вам, и все-таки ни один не догадался, что же именно она сделала…
Читать дальше