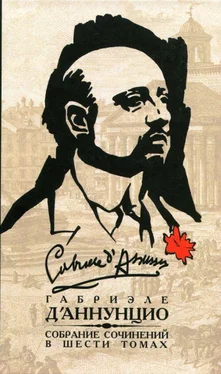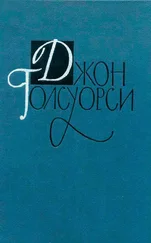— Я одолел тебя! Одолел тебя!
И Зиза начал покрывать поцелуями плечи пленницы, опьянясь своей победой, как сокол — добычей.
— Я одолел тебя!
— Нет.
То был веселый поединок сильных: он был здоровый, крепкий юноша, внезапно созревший и опьяненный страстным желанием, она была здоровая, пышная девушка, почти бессознательно охранявшая свою горевшую страстью девственность. Конь брыкался и пыхтел своими пламенными ноздрями, под живыми клещами жилы на его шее вздулись, хвост от страха вытянулся.
— Нет, — заревела цыганка, напрягая последние силы и наконец освобождаясь. От толчка Зиза зашатался на скользком крупе, судорожно вытянул руки и упал в воду среди звонкого смеха издевавшейся цыганки.
— Пей, Зиза! Пей!
Побежденный поднялся в воде, доходившей ему до груди, и встряхнул мокрыми кудрями, очнувшись после холодного купанья. Потом поплыл к берегу среди яркого отблеска красного паруса. Солнце и стыд обжигали его лицо, удары водяных брызг ранили все его тело. Табун, следуя его примеру, начал с шумом взбираться на берег.
И вдруг ожил лес: кони мчались, вытянув шеи и беспокойно храпя, словно гонимые оводами, и останавливались, чтобы стряхнуть со своих грив воду на согретую теплым утром землю. Слышался треск ломающихся виноградных лоз и горячее дыхание здоровых животных. Вскоре виноградник превратился в огромное пустынное побережье, на котором в течение дня хозяйничали гигантские толстокожие животные.
Зиза, лежа в тени шатра, пел песенку своих предков, протяжную, печальную, сопровождая мелодию дребезжащими металлическими минорными аккордами лютни. Его чарующая детская жизнерадостность затерялась среди дикой ивовой рощи Пескары, на отцветающем ковре клевера, в то сентябрьское утро. Теперь он лежал в какой-то болезненной летаргии, истомленный, как дикий зверь на цепи, лишенный леса и любви и запертый в клетку. Возбуждение ночи медленно разливалось по его телу, в полуденном спокойствии царило молчаливо бездействие, казалось, остановилась река, застыл канал, подернувшись гладким блестящим слоем, отбрасывавшим отражения, под изгибом моста берега терялись в зеленом беге тополей и камыша, среди которых висели шатры, подобно огромным паутинкам. Это была спокойная и безмолвная смерть лета, — приятная свежесть смягчала солнечный жар.
Но песня постепенно умирала на устах певца, стих звучал все тише и тише, переходя в неясное бормотанье, выходящее из горла, чуть слышно рокотали струны: вот их только три, две, последний тоненький звук задрожал под пальцем, застонал, щекоча нервы кисти и всей руки. Пронизывающая дрожь пробежала по телу, разлилась по всем жилам, судорожно отозвалась в верхней части груди и достигла головы, окутывая ее туманом, и казалось, будто дрожь эта еще хранила в себе дрожащий звук металлической струны, проникший в живую плоть. Это было как бы эхо песни, последнее эхо, ощущаемое как колебание воздушных волн и пробуждающее в душе давно уснувшие образы. Образы эти подымались в ленивом полете, как вылезающие из куколок бабочки, рассыпались в пространстве и исчезали, оставляя после себя светлую борозду. Беспокойное сладострастие пробегало по телу, казалось, будто кровь, разливаясь по жилам, встречала на пути своем узлы, вокруг которых сгущалась, как сок на стволе молодого деревца, в этих узлах чувствовался легкий зуд, который потом переходил на поверхность кожи, обжигая ее. Спустя немного одержало верх какое-то живительное чувство, теплая струя равномерно разлилась по телу, образы прояснились, стали более чистыми, более человеческими, оцепенение перешло в сонную неподвижность… Но вот снова судорожный трепет, неожиданный столбняк спутал образы, сладострастное чувство достигло крайнего напряжения, вливая отраву в прекрасное, сильное тело юноши…
Перед его взорами промчалась гибкая фигура женщины, все движения которой были полны жгучего желания, позади ослепительного вихря извивались обнаженные члены с живостью змеи, словно горя нетерпением сплестись, обвиться, обжечь, тело принимало самые яркие окраски апельсина и золота, рот раскрывался, как свежая рана, и стонал в жадном стремлении впиться, красные, напряженные соски грудей вздулись. Весь этот обманчивый образ был результатом безумного возбуждения. И Зиза жадно понесся вслед за призраком своей цыганки, схватив его руками, застывшими от жгучего наслаждения, искал пылающими взорами дышащего страстью тела, вдыхая в себя его запах… Вдруг, сильное напряжение задержало его дыхание, казалось, что вся кровь его остановилась, призрак побледнел, очертания фигуры задрожали, смешались, окраска поблекла. И тогда мрачная тоска сдавила юношу. Она не принадлежала ему, не хотела принадлежать, с царственным презрением она бросала ему в лицо вихри металлического смеха. Почему? Кто был этот другой? Кто был этот человек с голубыми глазами и медно-красной бородой?
Читать дальше