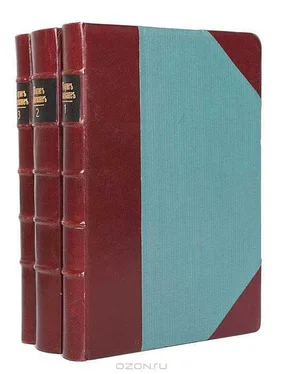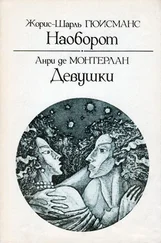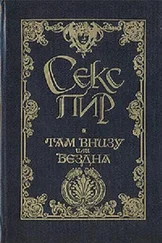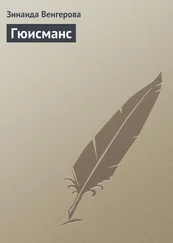Эта рукопись, с которой имеются точные снимки и фотографии, есть истинное уложение грегорианских напевов, невматическая, так сказать, библия, которою надлежит руководствоваться хорам.
И безусловно правы ученики святого Бенедикта притязая на исключительную достоверность и подлинность своих толкований.
— Почему прибегает тогда столько церквей к изданию Пюсте?
— Увы! Чем объяснить, что Пюсте столь долгое время владел монополией литургических книг… нет… лучше помолчим… Но несомненно, что немецкие списки создают полнейшее отрицание грегорианских преданий, величайшую ересь древней музыки.
— Кстати, который теперь час? А…. Надо поспешить, — сказал казначей, взглянув на часы, которые протянул ему Дюрталь. — Ну, ну, красавица! — И стегнул лошадь.
— Вы правите с душой! — воскликнул Дюрталь.
— Ах, да, я забыл упомянуть вам, что помимо всех прочих должностей я в потребных случаях несу еще повинность возницы.
Дюрталь задумался над необычностью этих людей, которые живут жизнью созерцательной в Господе. Снисходя до земли, они выказывают себя в высокой степени прозорливыми и отважными предпринимателями.
На собранные гроши игумен основывает фабрику, каждому из своих монахов избирает подходящий род труда, создает из них ремесленников, конторщиков, превращает в приказчика, наставника древней музыки, осваивается с водоворотом торговых сделок, и мало-помалу растет, ширится предприятие, которого сперва от земли было не видать, и питает своими плодами аббатство, его возрастившее. Перенести их в другую среду — и эти люди так же легко воздвигали бы большие фабрики, царили бы над банками. То же и с женщинами. Как подумаешь о практичности делового человека, о хладнокровии старого дипломата, которыми должна обладать мать игуменья, чтобы править своей общиной, то невольно напрашивается вывод, что разумных, замечательных женщин не найти ни в свете, ни в гостинных, но лишь во главе монастырей!
И он вслух подивился на искусство, с которым монахи развивают предприятия.
— Приходится, — вздохнул отец. — Но не подумайте, что нам не жаль тех времен, когда можно было прожить, возделывая землю!
Дух не порабощался тогда, и человек мог вкусить святости молчания, которое чернецу необходимо не менее, чем хлеб. Лишь оно заглушает зародыш тщеславия, обуздывает ропот непокорства, устремляет к Богу все помыслы и воздыхания, дарует видение Божества. А вместо того… Но вот и вокзал! Не беспокойтесь о саквояже и спешите купить билет, я слышу, как свистит поезд.
И действительно, Дюрталь едва успел пожать руку отцу, внесшему его вещи в вагон.
Оставшись один, сидя, смотрел вслед удалявшемуся шарабану, и мучительно сжалось его переполненное скорбью сердце.
С грохотом и лязгом тронулся поезд.
Ясно и отчетливо в единый миг сознал Дюрталь все ужасающее смятение, в которое повергла его пустынь.
— Ах! Все безразлично мне, — воскликнул он вне себя, — я равнодушен ко всему!
И содрогнулся, понимая, что никогда уж не приобщиться ему больше к влечениям и радостям людей! Столь неукротимо укоренилось в нем сознание в тщете всего иного, кроме мистики и литургии, в ненужности иных мыслей, помимо обращенных к Богу, что он спросил себя: какая ожидает его судьба в Париже?
И он представил себя застигнутым сумятицею споров, трусливым снисхождением, тщеславными утверждениями, суетными доводами. Представил себя осажденным, оскорбляемым мыслями большого света. И нет отныне иного выбора, как выйти вперед или отстраниться, бороться или молчать.
Но, так или иначе, прежняя жизнь утрачена навсегда. И не обрести ни крова, ни покоя душе, тревожимой прохожими путниками, распахнутой для всех ветров, доступной толпе мирских душ!
Усилилось его презрение к знакомствам, отвращение к близким связям. «Нет, все, что угодно, — сетовал он, — лишь бы вновь не смешиваться с обществом!» — И умолк, в отчаянии, зная, что не выжить ему пустынником вдали от иноческих стен, что не замедлит подкрасться к нему скука, пустота. Почему не сохранил он ничего, зачем отдал всего себя монастырю? Не пощадил даже наслаждения внутренней обстановкой своего жилища, ухитрился потерять способность любованья изящными безделушками. В белой наготе кельи погубил последнюю свою радость. Ничто больше не влекло его, и поверженный, разбитый, подумал: «Я отверг частицу счастья, на которую все еще мог надеяться, а чем заменить?»
И устрашенный, предвкушал тревоги души, склонной к самоистязанию, и вечные упреки в закоренелом равнодушии, и муку сомнений против веры, и ужас яростных призывов чувственности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу