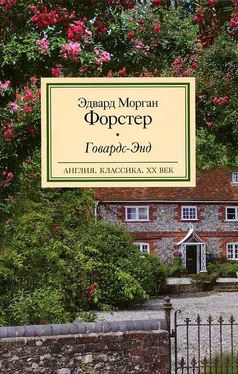— Змеи помельче! — с негодованием сказал вслух Леонард. — Что за мысль!
Усилием воли он вернул в реальность остальную часть комнаты. Джеки, кровать, еда, одежда на стуле постепенно вошли в его сознание, и ужас отступил точно расходящиеся по воде круги.
— Послушай, Джеки, я пойду пройдусь.
Дыхание Джеки было ровным. Пятно света падало прямо на полосатое одеяло, наползая на шаль, укрывавшую ей ноги. Чего он так испугался? Он подошел к окну и увидел, что луна начала свой уход с чистого неба. Увидел ее вулканы и яркие пространства, которые по чьему-то благостному заблуждению были названы морями. Они побледнели, потому что освещавшее их солнце теперь обратилось к Земле. Море Ясности, море Спокойствия и океан Бурь слились в одну прозрачную каплю, которая в свою очередь скоро обратится в вечный рассвет. А он почему-то испугался луны!
Леонард оделся при смешанном свете соперничающих небесных светил и подсчитал, сколько у него осталось денег. Не много, но достаточно, чтобы купить билет до Хилтона и обратно. Звон монет заставил Джеки открыть глаза.
— Это ты, Лен? Что ты делаешь, Лен?
— Это я, Джеки! Скоро приду.
Повернувшись на другой бок, Джеки уснула.
Входная дверь уже была открыта, поскольку их хозяин торговал в Ковент-Гардене. Выйдя из дому, Леонард направился на вокзал Кингс-Кросс. Поезд, до отхода которого оставался час, стоял у конца платформы, и Леонард, улегшись на сиденье, уснул. С первым же толчком он проснулся и увидел, что наступил рассвет. Они ехали под голубым небом. Потом начались тоннели, и после каждого небо становилось все более синим, а с набережной у Финсбери-Парка он заметил первые лучи солнца. Оно катилось позади дымов, поднимающихся из труб на востоке, — колесо, чьей подругой была уходящая луна, — но пока казалось слугой, а не господином голубого неба. Леонард снова задремал. В районе Тевинуотера был уже день. Налево падала тень от набережной и ее арок; направо виднелись Тевинский лес и церковь с ее нелепой легендой о бессмертии. Шесть лесных деревьев — и это факт — выросло на одной из могил церковного кладбища. Лежавшая в ней женщина — а это уже легенда — была атеисткой, объявившей, что если Бог существует, то на ее могиле вырастет шесть лесных деревьев. Такое случается в Хартфордшире. Немного поодаль стоял дом отшельника — его знала еще миссис Уилкокс, — который отгородился от мира и, раздав свое имущество бедным, писал пророчества. Между этим домом и кладбищем были рассыпаны виллы предпринимателей, смотревших на жизнь гораздо увереннее, но полузакрытыми глазами. На всю округу изливало свой свет солнце, всем пели птицы, для всех желтели примулы и голубели вероники, и природа, как бы ее ни толковали, говорила: «Сейчас!» Она еще не освободила Леонарда, и, когда поезд подъехал к Хилтону, нож глубже вонзился в его сердце. Но раскаяние стало прекрасным.
Хилтон спал или — если говорить о тех его обитателях, кто вставал рано, — завтракал. Но, выйдя за город, Леонард сразу же почувствовал контраст. Здесь люди поднимались с рассветом. Их день строился не по законам лондонских контор, а по времени созревания урожая и движению солнца. То, что это были люди утонченной породы, мог бы сказать лишь сентименталист. Но жизнь их строилась по правилам светового дня. Они надежда Англии. Своими грубыми руками они будут нести вперед солнечный факел, пока народ, ставший нацией, не сможет его принять. Наполовину мужланы, наполовину неучи из деревенских школ, они все же могут вернуться к своим более благородным корням и вырастить йоменов.
У мелового карьера мимо Леонарда проехал автомобиль. В нем сидел человек иного типа, из тех, кому благоволит Природа, — империалист. Здоровяк, что было заметно даже во время движения, такой человек надеется наследовать землю. Он плодится так же быстро, как йомены, и с такой же основательностью. Велико искушение признать в нем представителя следующего за йоменами высшего сословия, который распространяет за океаном все лучшее, что есть в его стране. Однако империалист — это не то, что он думает, и не то, чем кажется. Он разрушитель. Империалист готовит почву для космополитизма, и хотя его амбиции могут быть удовлетворены, земля, которую он унаследует, станет серой.
К Леонарду, сосредоточенному на своем личном грехе, пришло убеждение в исконной добродетельности всего, что его окружало. Это был не тот оптимизм, которому его учили в школе. Снова и снова должны зазвучать барабаны и гоблины прошествовать по Вселенной, прежде чем радость очистится от всего наносного. Эта мысль, довольно парадоксальная, была порождена печалью. Смерть уничтожает человека, но идея смерти его спасает — вот самое лучшее объяснение, которое ему довелось услышать. Трагедия и убогость могут манить к себе все, что есть в нас великого, и укреплять наши любовные крылья. Могут, но не обязательно станут это делать, ибо они не состоят у любви в услужении. Но все же они могут нас манить, и осознание этой невероятной истины утешило Леонарда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу