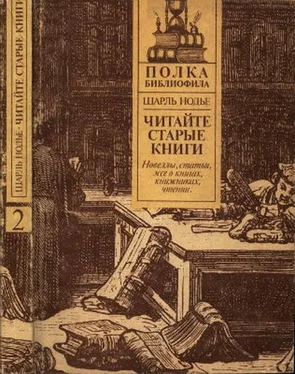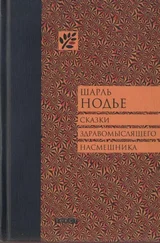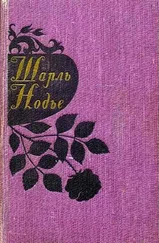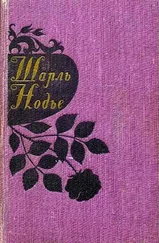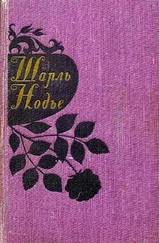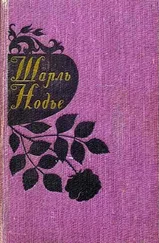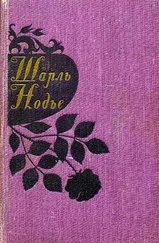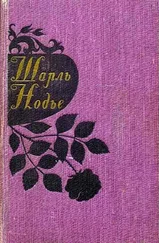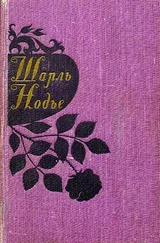”Книжник” — одно из тех двусмысленных слов, которых, к несчастью, множество во всех языках. Книжником называют как любителя, роющегося в старых книгах, так и уличного торговца. В старые времена ремесло это было почтенным и доходным. Бывало, торговец старыми книгами расставался со скромным лотком или убогой повозкой и позволял себе роскошь открыть крохотную лавочку. Этот путь проделал Пассар, память о котором, должно быть, еще жива на улице Кок. Да и можно ли забыть Пассара, его коротко стриженные волосы, вздернутый нос и глаза — один большой, выпученный, рыжеватый, другой маленький, голубой, глубоко посаженный — природе угодно было создать их такими несхожими, чтобы внешность Пассара ни в чем не уступала его эксцентрическому характеру. Когда сардоническая усмешка чуть трогала правый уголок рта Пассара, когда в его маленьком голубом глазу вспыхивали лукавые искорки, которые никогда не освещали другой, большой и тусклый, глаз, это означало, что Пассар расположен поболтать и вы имеете возможность услышать множество скандальных историй из политической и литературной жизни последних сорока лет. Пассар, торговавший то в проезде Капуцинок, то перед Лувром, то возле института, все видел, все знал и в своей букинистической гордыне все презирал. И все же Пассар не был тем человеком, о котором Гораций сказал: Dicendi bona mala locutus [43]; к нему это относилось лишь наполовину. Память Пассара хранила только плохое; надо было слышать, с каким ироническим пылом, поднимавшимся подчас до подлинного красноречия, он развенчивал самых славных героев. ”Ну а Мирабо?” — робко спросил я у него однажды. ”Мирабо, — высокомерно ответствовал Пассар, выставив вперед правую ногу, — был дурак и трус”. Для очистки совести спешу заметить, что это ничего не доказывает, хотя вообще-то Пассар разбирался в людях даже лучше, чем в книгах. Во всяком случае, все бывавшие у него книжники-любители в один голос утверждают, что рассказы его были гораздо занимательнее его книг.
Я вспомнил книжника Пассара — безвестного человека, которому не посвятит статьи ни один биографический словарь, Пассара, являющегося, судя по всему, Брутом, Кассием книжной торговли, последним букинистом. Книжник, торгующий на мосту, набережной или бульваре, жалкое созданье, подозрительное, странное и хилое, которое не живет, а доживает свой век среди никому не нужных брошюрок, — это в лучшем случае тень книжника; книжник умер.
Эта великая социальная катастрофа, гибель книжника — одно из неизбежных следствий прогресса: безобидное и невинное порождение хорошей литературы, книжник должен был уйти из жизни вместе с ней. В ту невежественную эпоху, которую мы, к нашей вящей радости, оставили в прошлом, издатели, как правило, знали цену публикуемым ими книгам и выпускали их на хорошей бумаге — плотной, упругой, хрустящей; они одевали книги, если те того заслуживали, в переплет из хорошей прочной кожи, склеивали их хорошим клеем и сшивали хорошими крепкими нитками. Такой книге суждена была долгая жизнь, даже если она оказывалась на лотке букиниста. Ее переплет из сафьяна, телячьей кожи или пергамента, выцветший и сморщившийся от солнца, размокший от сырости, в сухую погоду покрытый густым слоем пыли, а в дождливую липкой грязью, долгие годы хранил под своей неказистой на вид оболочкой мечты философов и грезы поэтов. Нынче дела обстоят иначе. Прогрессивный книгопродавец знает, что участь публикуемых им книг мало чем отличается от участи мух-однодневок с берегов реки Гипанис {295} и что не успеет реклама окрестить их, как фельетон уже споет им отходную. Нынешний издатель вкладывает белые листы, испещренные черными значками, в желтую или зеленую обложку и, положившись на милость стихий, пускает свою стряпню в продажу. Месяц спустя жалкое издание уже валяется на лотке уличного торговца, омываемое струями утреннего дождичка. Оно отсыревает, разбухает, сморщивается, покрывается бурыми пятнами и постепенно превращается в ту бумажную массу, из которой было сделано и которую смело можно использовать для изготовления новой бумаги. Такова судьба книг эпохи прогресса.
Книжник, торгующий старыми благородными фолиантами, не имеет ничего общего со злополучным торговцем мокрой бумагой, раскладывающим на лотке заплесневевшие лохмотья, оставшиеся от вчерашних новинок. Повторяю вам, книжник умер, что же до брошюр, пришедших на смену книгам, о них лет через двадцать никто даже не вспомнит. Можете мне поверить, я ведь и сам настрочил их не меньше трех десятков.
Читать дальше