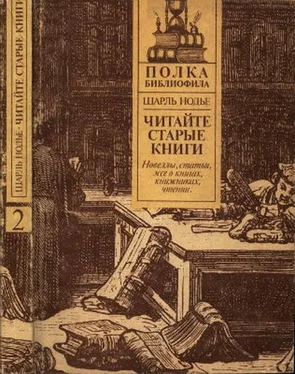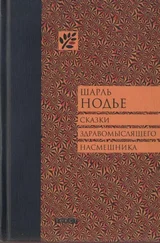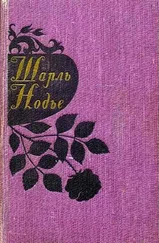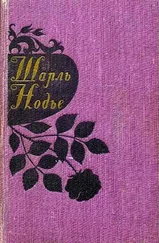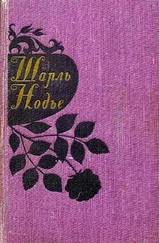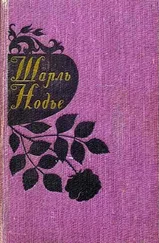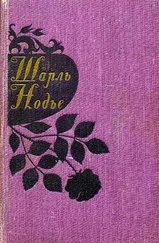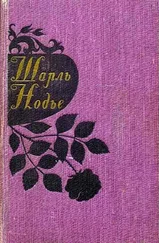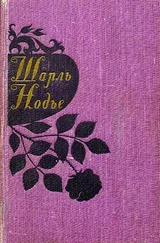От великого до смешного — один шаг. От библиофила до библиомана — одна катастрофа. Библиофил мгновенно превращается в библиомана, когда ему случается поглупеть или разбогатеть, а от этих несчастий не застрахованы даже самые достойные люди; первое, впрочем, настигает смертных гораздо чаще, чем второе. Мой дорогой учитель, почтенный господин Булар был некогда библиофилом с тонким и разборчивым вкусом, но со временем завалил шесть шестиэтажных особняков шестьюстами тысячами книг самого разного формата; они лежали там грудами, напоминая то ли каменные стены, сложенные циклопами {288} без извести и цемента, то ли галльские могильники. В самом деле, это были настоящие кладбища книг. Помню, однажды, странствуя вместе с хозяином среди этих шатких обелисков, которых не коснулись умелые руки благоразумного господина Леба {289} , я осведомился о судьбе редчайшей книги, которую некогда уступил моему почтенному другу на одной знаменитой распродаже. Устремив на меня взор, в котором, как обычно, светились острый ум и добрая душа, господин Булар ткнул тростью с золотым набалдашником в одну из этих огромных куч, rudis indigestaque moles [40], затем в другую, затем в третью: ”Она там, или там, или же там”. Я содрогнулся при мысли, что злополучный томик погребен, быть может навеки, под восемнадцатью тысячами фолиантов, но эти подсчеты не помешали мне позаботиться о спасении собственной жизни. Высоченные кипы книг, неустойчивое равновесие которых господин Булар потревожил своей тростью, угрожающе шатались, а вершины их раскачивались, как тонкий шпиц готического собора от колокольного звона или порыва ветра. Оттащив подальше господина Булара, я обратился в бегство, не дожидаясь, пока Осса упадет на Пелион {290} или Пелион на Оссу. Даже сейчас, когда я вспоминаю, как с высоты двадцати футов едва не рухнули мне на голову все фолианты, написанные болландистами {291} , меня охватывает священный трепет. Называть библиотеками эти горы книг, к которым не подступиться без лопаты и которые не удержать без подпорок, — значит оскорблять законы человеческого языка.
Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum [41].
Библиофила не надо путать с книжником, речь о котором впереди; однако и библиофилу случается рыться в старых книгах. Он знает, что не одна жемчужина была извлечена из навозной кучи и не одно литературное сокровище таилось под истрепанной обложкой. К несчастью, такие удачи крайне редки. Что же касается библиомана, он к книжным развалам даже не подходит, ведь рыться в книгах значит выбирать. А библиоман не выбирает — он скупает.
Книжник в строгом смысле слова — это старик рантье, учитель в отставке или вышедший из моды литератор, то есть человек, сохранивший любовь к книгам, но не имеющий средств на то, чтобы их покупать. Он только и делает, что ищет драгоценные старые книги, rarae avis in terris [42], которые капризный случай мог забросить в пыльную каморку старьевщика, алмаз без оправы, который опытный ювелир узнает с первого взгляда, а невежда принимает за подделку. Разве вы не слышали об экземпляре ”О подражании Христу”, который Руссо в 1765 году взял у своего друга господина Дюпейру, — книге с пометами Руссо и его подписью, книге, между страницами которой сохранился засушенный барвинок — Руссо своей рукой сорвал его в том же году в Шарметтах {292} ? Это неприметное на вид сокровище, за которое знаток отдал бы золотые горы, обошлось г-ну де Латуру всего в 75 сантимов. Вот это находка! Впрочем, не знаю, что бы мне больше хотелось иметь — экземпляр ”О подражании Христу”, принадлежавший Руссо, или старинное издание ”Теагена и Хариклеи” {293} , которое Расин со смехом отдал наставнику: ”Можете сжечь эту книгу, — сказал он, — я выучил ее наизусть”. Если сейчас у букинистов на набережной нет этой небольшой книжечки с красивой подписью и пометами по-гречески, сделанными мелким почерком, который я узнал бы из тысячи, то, ручаюсь, лишь оттого, что ее недавно продали. А что бы вы сказали об экземпляре ”Проученного педанта” Сирано {294} , где на полях против двух сцен — мне нет нужды пояснять, каких именно, — стоит фигурная скобка, а рядом рукой Мольера написано: ”Мое”. Все это — тихие радости книжника, которые, надо признаться, чаще всего остаются волшебными грезами. Всеведущий господин Барбье, назвавший нам авторов множества анонимных книг и умолчавший о еще большем их числе, намеревался составить библиографию ценных книг, купленных в течение четырех десятков лет на парижских набережных. Такая книга украсила бы нашу словесность и стала бы настоящим подарком для книжников, этих искусных и хитроумных алхимиков от литературы, которые спят и видят, как бы отыскать философский камень, а находя время от времени его осколки, меньше всего заботятся о том, чтобы заказать для них роскошную оправу. Книжник всю жизнь пребывает в уверенности, что владеет тем, чем не владеет никто; он снисходительно пожал бы плечами даже при виде сокровищ Великих Моголов и не намерен украшать свою драгоценную добычу никчемными поделками сторонних умельцев: на то у него есть веские причины, которые он, правда, скрывает под благовидным предлогом: ”Шедеврам типографского искусства следы времени так же к лицу, как патина — античной бронзе. Библиофил, переплетающий книги у Бозоне, подобен нумизмату, золотящему медали. Оставьте меди зелень, а старинным книгам — расползающуюся кожу”. Увы, все дело в том, что переплеты Бозоне очень дороги, а книжники — люди небогатые. Конечно, не стоит портить святотатственными румянами совершенную красоту и предавать в руки реставратора книгу, которая может обойтись без этой рискованной операции, но поверьте мне: книги, как женщины, от украшений только хорошеют.
Читать дальше