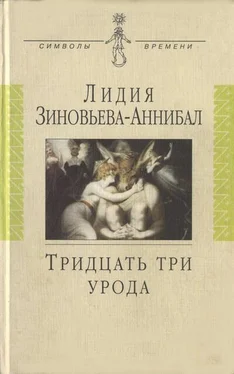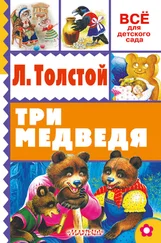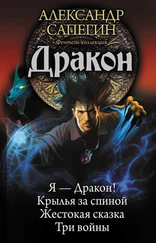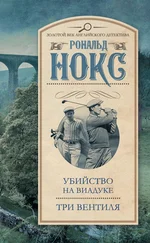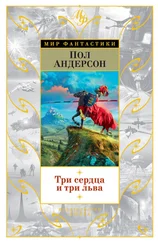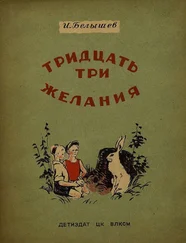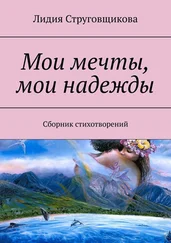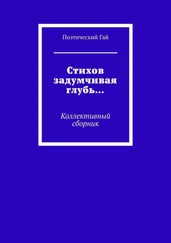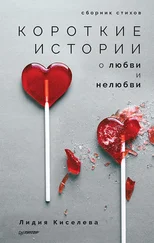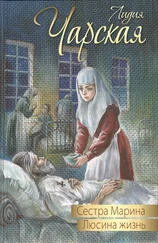«Серафита» — теософский и мистический роман О. Бальзака, созданный в 1833–1835 гг. (русский пер. — 1996).
«Час пробил, идите. Объединяйтесь! Споем у врат святилища, песни наши развеют последние тучи».
БЕЛАЯ НОЧЬ. Печ. по: Белые ночи. Петербургский альманах. СПб., 1907. В альманахе были помещены стихотворения Г. Чулкова, М. Сабашниковой и др., а также проза М. Кузмина. Кроме стихотворения Зиновьевой-Аннибал в книге под таким же названием было напечатано стихотворение Ольги Беляевской:
Белой, сказочной ночи объятья
Истомили мечтами меня.
И напрасно шептала заклятья,
И напрасно противилась я.
Одолела ты глубью бездонной,
Покорила безликой тоской.
В час, двойною зарей осветленный,
Унесла ты мой белый покой.
Об О. А. Беляевской см. коммент. к рассказу «Журя». Стихотворение, озаглавленное «Белые ночи», опубликовал и А. Блок.
Печ. по: Зиновьева-Аннибал Л. Тридцать три урода. Повесть. 2-е изд. СПб., 1907 с сохранением пунктуации в авторской редакции.
Самой Лидии Дмитриевне, по-видимому, повесть нравилась. Она даже «рекламировала» ее друзьям. Так, Чулковым она писала: «Видели Вы „Тридцать три урода“? Преинтересные, уверяю Вас. Милый строгий мой критик, Надежда Григорьевна (жена Г. И. Чулкова. — М.М.), возьмите у Вячеслава и прочтите» (РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 336. Письмо от 12 августа 1906 (?) года). Лидия Иванова приводит в своих воспоминаниях забавный эпизод: «…Мама писала повесть, называвшуюся „Тридцать три урода“. Ко дню рождения мамы я вырезала из бумаги 33 фигурки, сшила их в виде маленькой тетрадки, преподнесла маме с надписью и вопрошала: не могут ли 33 урода образовать одного красавца? Я помню, что эта мысль позабавила взрослых и, к моей гордости, возбудила у них целую дискуссию» (Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 15).
Чувственный мир «Тридцати трех уродов» нашел воплощение в художественной литературе Серебряного века. Об атмосфере «башни» дает представление пьеса Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел» и рассказ Георгия Чулкова «Полунощный свет» (1909), в персонажах которого контаминированы черты гостей, посещавших ивановские «среды». Однако некоторые образы более, чем прозрачны: Сергей Савинов — Вяч. Иванов; его жена Людмила — Л. Д. Зиновьева-Аннибал; Анна Николаевна Калиновская — Анна Рудольфовна Минцлова, известная теософка, Ив. Ив. Кассандров — Д. С. Мережковский.
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — поэт-символист, второй муж Л. Д. Зиновьевой-Аннибал.
Вера — выбор имени героини не случаен. Обычно в творчестве Зиновьевой-Аннибал его носит персонаж, наделенный автобиографическими чертами (ср.: девочка в «Трагическом зверинце»). Кроме того, Верой звали старшую дочь Зиновьевой-Аннибал от первого брака с Константином Семеновичем Шварсалоном. Ей было посвящено первое опубликованное произведение писательницы — драма «Кольца» (1904). Через три года после кончины матери Вера Константиновна Шварсалон (1890–1920) стала женой Вяч. Иванова. Вот как описывает их соединение дочь Иванова и Лидии Дмитриевны — Лидия: «Наступает весна 1912 года. Мне скоро минет 16 лет. И вдруг Вячеслав ко мне обращается и приглашает к себе в комнату на башню, чтобы со мною поговорить. Мы проходим через маленькую боковую комнату. В ней сидит Вера и робко смотрит, как мы удаляемся. Я опять сажусь в важное черное кресло и слышу невероятные вещи.
Вячеслав и Вера любят друг друга и решили соединить свою судьбу и всю жизнь. Это не измена маме. Для Вячеслава Вера есть продолжение мамы, как бы дар, который ему посылает мама. Будет ребенок» [Родился сын Дмитрий.]. ( Иванова Л. Указ. соч. С.45). Она же рассказала и о мучительной болезни Веры Шварсалон: «Болезнь проявлялась во все усиливающейся атонии кишок, дошедшей до паралича. Доктора не умели понять, в чем дело. Атония кишок вызывала припадки интоксикации, сначала редкие, потом все более частые и все более длительные. Вера лежала в темной комнате с жестокими головными болями, а когда припадки проходили, не знала, чем питаться, т. к. со временем все меньше и меньше оставалось вещей, которые бы ей не вредили. Она героически боролась, чтобы участвовать в общей жизни — в ее радостях и трудностях, — чтобы выработать в себе духовную силу и стать выше своей болезни. Последние 2–3 года ее жизни были мученичеством. В 1919 году обессиленный и истощенный организм сделался жертвой быстротечного процесса легочного туберкулеза» (там же. С.55).
Читать дальше