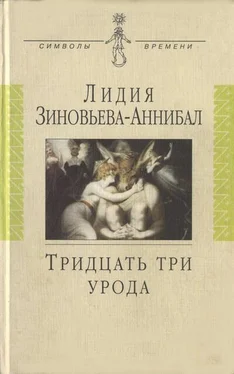И что же? Где истинно пребывающее? В смеющейся ли округлой маске Прометея утешенного? в том ли исхудалом мечтателе, рыдавшем от любви к своему неумолимому порыву? Отчаяние — немой герой мэонтической Прометеевой повести — глядит на нас пустым взором; хохочет беззвучно дикою гримасой обезумевшего.
В отчаянии нет преодоления; но трагедия — преодоление гибелью.
«Двенадцать томов полемики! Только пыл в них обновляется, и болезнь их питает. Гнев и страсть несменно пышут из них!»
Вот слова Андре Жида о книгах Ницше. И тут же:
«К этому ли должен был прийти протестантизм? — Я думаю — и вот почему им восхищаюсь! — к величайшему освобождению…»
И дальше:
«Ницше — предисловие ко всей будущей драматургии». («Lettres à Angèle». [112])
Да, Андре Жид «сам слишком протестант», чтобы не пылать пафосом проповедника, и слишком поэт, чтобы не вожделеть арены, где плотью и кровью встает перед всем миром воочию пылающее слово. Для театра будущего он хочет работать.
* * *
Кандавл, «слишком большой», «слишком великодушный», себя толкающий до последнего конца, — Кандавл «богатый», Кандавл «счастливейший в мире», Кандавл «изумительный», Кандавл «прекрасный», Кандавл «большой», Кандавл, подаривший Гигесу-рыбаку свое царство, и… «громче говори, моя младшая мысль! — куда ты ведешь меня, изумительный Кандавл?» — Кандавл, вручивший Гигесу-рыбаку кольцо-невидимку и через обман того кольца — любовь своей жены, самой Красоты, — Кандавл — семя глубочайшей Трагедии высшего жертвенного Порыва.
«О, полнота моего счастия! Как сумею истощить тебя моими чувствами? Вам моя благодарность, друзья, вам, истощающим со мною мой избыток!» («Saül». «Le roi Candaule». [113])
Кандавл, Кандавл, ты все свое отдал нищим, себя отдал, твоею кровью напилась земля, — и ничего не расцвело, и не пришло преображение твоей великой любовью! Кандавл, Кандавл, и что осталось тебе, все отдавшему, и даже Красоту? Горящий венец твоего порыва!.. Учуял ли поэт единственное трагическое очищение от горьких слез о гибели Кандавла — жертвенный пожар, сливающий в один очистительный океан огня все сердца зрителей его трагедии? Но певец царя Кандавла прежде всего — обладатель «субтильной мысли»: изысканная тонкость мысли в слезы и смех вносит растворяющую иронию, и большие жесткогранные очерки трагедии разбегаются серебристыми нитями волшебной паутины; трагедия намечается, наплывает, но… «вспухнет вал — и рухнет в море» {251} , не разбившись влажным рыданием о берег.
* * *
«К природе посылают искусство всякий раз, когда оно изнемогает… Да, художник обнимает природу, обнимает ее всю, но исполняя известный стих: я обнимаю своего соперника — чтобы задушить его». («De lʼévolution du théâtre» [114].)
Искусство не должно искать свободы; во все века высшего своего расцвета оно искало борьбы и препятствий.
«Из стеснения рождается искусство». («Prétextes» [115].)
«Искусство нуждается в сопротивлении, чтобы подняться, — в опоре полету». («De lʼévolution du théâtre».)
«Тройное единство» времени, места и действия принадлежало к подобным стеснениям, налагаемым на себя искусством.
Вся трагедия пронзенного больною негою сердца, что в себя с бережливою жадностью вобрало все легчайшие шорохи и благоухания, чтобы ничто сладкое извне не прошло мимо незамеченным, — что «доблесть свою положило в своей сложности» («Saül»), что пурпуром утомилось и в действии раскаялось, и от пыла желаний сохранило себе только аромат вожделений, — трагедия сердца, к жизни не сильного, к смерти сладострастного, — трагиком втеснена в небывалые грани психического единства вне места и вне времени — в одну душу, сверх меры и права истончившуюся, бабочку, родимым солнцем опаленную, современную душу современного Гамлета — душу двоящегося призрака, пастуха — царя Саула. {252}
Душа Саула — ночная терраса под звездным небом, где родительница лукавых демонов, соперничающих во владычестве над нею, — она одна, вожделея к пророчеству, желает проникнуть тайну будущего и, жестокая и лукавая, подымает царя на убийство истинных пророков и колдунов еврейской страны. И будущее, искомое столь упорно, — становится, быть может, призванное исканием и страхом, «который лишь вожделение». Так в душе, вне пространства, сливается будущее и настоящее во вневременный тяжкий сон. И тот сон видит и влачит на ночной террасе Саул, о ком слуги его, изумляясь и ненавидя, говорят промеж себя: «Человек или пьет вино, или молится, или гадает по звездам. Но все это зараз делает безумный Саул!»
Читать дальше