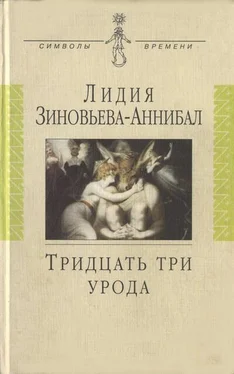И все это вместе, в маленьком свертке, — это жизнь; — и это все? — Нет; есть еще и еще другие вещи… Я желал бы быть родившимся в те времена, когда поэт мог воспевать мир, лишь называя все его явления!.. Нет, еще не все звезды на небе, не все жемчужины на дне морском, не все белые перья по берегам заливов — сосчитаны!.. Дикая земля, земля без доброты и без сладости, земля пыланий и пророков, а! мучительная пустыня, славная пустыня, я тебя любил страстно!.. Радость питать на себе паразитов!.. И пусть счастие здесь будет цветением на смерти. Величайшие наслаждения моих чувств — были утоляемые жажды!.. Линкей, Линкей, с высоты своей башни что видишь ты? Я вижу поколение восходящее и поколение нисходящее. Я вижу целое поколение, всходящее во всем оружии, во всем своем оружии к радости жизни. День рождается, и уже выступает праздничный народ навстречу солнцу».
Пройдены все ступени гедонистических {246} восторгов от рдяных пыланий к глубокой красоте мира и тончайших дрожей нервов до последнего сладострастия исступления из стихии человеческой, до наслаждения телесною грязью и тлением. Круговой пляске всех жажд подымает он гимн силы дивной и горделивой, отвергая сочувствие, от него же все заразы, — ищет создать героическую среду пылающих желаний: «Я научу тебя пыланию, Нафанаил!» — и страдания Филоктета {247} преображает красотою ритмических жалоб.
Пафос его пьян сладострастием жизни и просвечен ее красотою.
* * *
Но в заклятых кругах своих без выхода, где жалит жалость и гонит тоска разлуки и безответного: к чему? — как уметать меру разрешительного хмеля?
Ницше описал нам эпикурейство {248} глядящим из своего сада на спокойное море. Андре Жид говорит:
«Торговаться в выборе наслаждений, оттого что капитал покупателя скуден, это обусловливает отказ от всего, что не вместилось в выбранном; но неуместившееся уже одним количеством своим воспреобладало бы в моем желании над изысканнейшими качествами выбранного».
Андре Жид не мог принять мудрой умеренности эпикурейства: мир он пожелал обратить в свой сад, и моря свои взволновал неудержными желаниями. Но из сада своего, где каждая дрожь наслаждения — экстаз отчаяния, и, плавая по фосфорическим волнам своих морей, он рыдает:
«О, сон! О, если бы из него не пробуждал нас к жизни новый призыв желаний!.. На моей постели я напрасно искал сна, мои члены были истомлены и опустошены любовью, и порой после сладострастия тела я призывал как бы второе сладострастие, более скрытое. Я выпил целый стакан этой воды, прежде чем успел заметить ее зловоние. Были часы, когда луковичные поля в цвету грозили вызвать во мне рвоту. О, холодный нож моей истошной тоски! подушка под болящей головой!..»
Его пафос жаден.
* * *
И одинокого в лабиринтных кругах его рая, крадучись, настигает пепельный призрак Скуки, и судорогой волн узник своего пафоса подхватывает крик Ницше: «Радуйся!» и «Я хочу этого мира, хочу его таковым, каким он есть, и еще его хочу, хочу его вечно и ненасытимо зову его повторения!»
И крик тот, жизнь утверждающий, Нарцисс-гаситель повторяет по-своему: «Я хочу внушить презрение к Титиру за его покорность…» И, так как рыбы мало ловилось в его болотах, Титир довольствуется для пищи болотными червями.
«Всегда над нами крыша: она укрывает нас от солнца и бегущего от нее по равнине преследует, как тот колокол в легенде, что догонял и давил неверных богомольцев.»
«И к нашей посредственности примешивается наша слепота… О Боже, мы ужасно заперты!.. Но достаточно для невыносимости жизни одного сознания, что она могла бы быть иною». (Paludes.)
«Все ли сказал человек тем, что сказал до сих пор. И с каждым днем во мне росла вера в нетронутые богатства, затаенные, задавленные культурой, приличиями, моралью». («LʼImmoraliste».)
Меналк — маска Оскара Уайльда — соблазняет имморалиста к анархии бродяжничества, к сладострастию мимолетных прикосновений. И медленно, однообразно, почти скучно в проследовании автором всех мелочей процесса эволюирует Аристотелевское «животное гражданственное» к полюсу «прекрасного хищника» {249} Ницше, — и Мишель, отвергая все сдержки обычая, открывает душу всем инстинктам и всем сладострастиям. Медленно умирает его замученная жертва — его жена. Быстро совершается разорение его имущества. Но имущество — стеснение, и он рад дикой воле: его друзьями будут грабители и воры.
«Я дошел до того, что в других ценил только самые дикие их проявления и огорчался всякими сдержками.» («Lʼlmmoraliste».)
Читать дальше