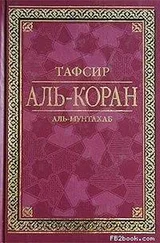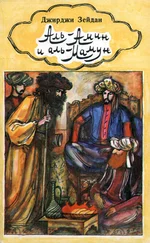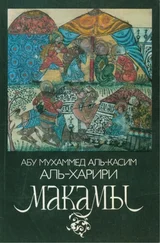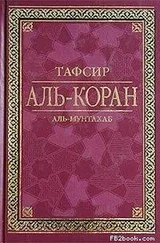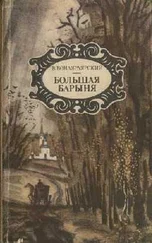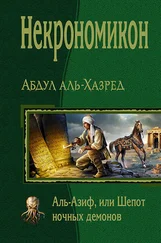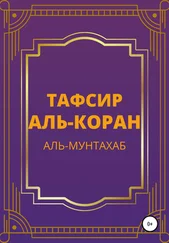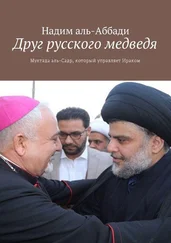Дурная привычка, которую следует оставить всем, кто желает прослыть вежливым и воспитанным, — вмешиваться и исправлять рассказчика, чтобы показать людям, что ты слышал этот хадис и знаешь его.
У людей есть дурная привычка намекать на пороки кого-нибудь из присутствующих. Но ведь каждый знает свои недостатки, поэтому лучше сказать прямо, избегать всяких намеков и не обольщаться, думая, что никто не поймет их.
Один из признаков дурного нрава и невоспитанности — когда человек, узнав о том, что кому-либо из присутствующих повезло и он разбогател или получил то, чего долго добивался, начинает умалять удачу и твердит, словно уличный проповедник, что судьба переменчива, счастье скоротечно и богатство недолговечно. Всем будет ясно, что он просто завидует удачливому собрату, и по праву сочтут его злобным завистником, желающим вселить сомнение в душу того, кому судьба улыбнулась, и умалить его радость.
Я расскажу тебе об одном из своих друзей, который был в моих глазах великим человеком. Главное, что восхищало меня в нем, это его презрение к благам этого мира. Он был неподвластен своему чреву, крайне умерен в еде и ел самую обычную пищу. Он не был рабом своих чресел, не совершал чего-либо сомнительного или запретного и не грешил ни делом, ни помышлением. Он не давал воли языку, никогда не говорил того, чего не знал в точности, и не вступал в споры, когда не был уверен в верности своего мнения. Он был неподвластен гневу и раздражению, и никто не слышал от него грубого или необдуманного слова. Он почти всегда молчал, а говорил лишь тогда, когда был уверен, что его речи принесут пользу, и побеждал всех ораторов и проповедников. Он казался скромным и даже униженным, но когда брался за дело, то уподоблялся свирепому льву.
Он жаловался только тому, кто мог помочь, а советовался только с тем, от кого надеялся получить разумный совет. Он никогда не шумел и не спорил, не гневался и не поддавался своим страстям, не радовался без удержу и не горевал без предела, мстил за друзей и всегда был готов дать отпор врагам. И при этом он заботился о своих друзьях как о самом себе.
Подражай же этому человеку, если сможешь, а если не сможешь уподобиться ему во всем, то заимствуй хотя бы часть его достоинств — ведь получить малую толику добра лучше, чем не получить ничего».
Арабская сказка Лев и Бык. Переработал С. С. Кондурушкин. Петроград, 1918, изд-во «Огонек».
Примечание от редакции: перевод книги «Калила и Димна», выполненный И. П. Кузьминым под редакцией и при участии академика И. Ю. Крачковского, впервые был опубликован в 1934 г., затем переиздан массовым тиражом в 1957 г. Ныне перевод этот устарел, но в свое время сыграл важную роль в арабистике и литературоведении в целом. Новый перевод сделан по каирскому изданию, 1950, с привлечением изданий, выходивших в Дамаске (1959) и Алжире-Бейруте (1973).
Ибналь-Мукаффа. «Калила и Димна»
Перевод сделан по изданию: Ибн аль-Мукаффа. Калила ва Димна. Каир, 1950
КАЛИЛА И ДИМНА
Имена, встречающиеся в «Калиле и Димне», почти не поддаются идентификации; так, Бурзое и Адое по своей форме — имена явно персидские, Байдаба — вероятно, индийское; прочие имена, по всей вероятности, также индийские, но подверглись весьма значительному искажению вначале в пехлевийском, а затем в арабском переводе. Некоторые имена животных, быть может, этимологизированы, как, например, имя мыши Ширак (букв. «львенок») в рассказе о мышином царе; не исключено, что в оригинале Ширак носил другое имя или это случайное фонетическое совпадение. То же можно сказать и о названиях стран и городов: чуждые и непонятные переводчику на язык пехлеви, они могли трансформироваться до неузнаваемости. Возможно, некоторые географические названия были заменены еще в пехлевийском переводе на персидские и в таком виде переданы Ибн аль-Мукаффой. В разных изводах «Калилы и Димны» эти названия (за исключением тех, что были понятны и известны Ибн аль-Мукаффе) довольно сильно варьируются. Для сравнения были использованы следующие издания «Калилы и Димны»: Ибн аль-Мукаффа Абдаллах. Калила ва Димна. Дамаск, 1959; Ибн аль-Мукаффа. Калила ва Димна. Алжир-Бейрут, 1973. В данном переводе имена собственные даются по каирскому изданию 1950 года.
Шатрандж — персидская форма санскритского слова «чатур ранг» (букв. «четыре ряда»), обозначающего игру, положившую начало современным шахматам. Слово «шатрандж» вошло в арабский язык без изменений. В данном случае речь идет о шахматах, в которых употреблялась доска, где каждая сторона имела 9 клеток.
Читать дальше