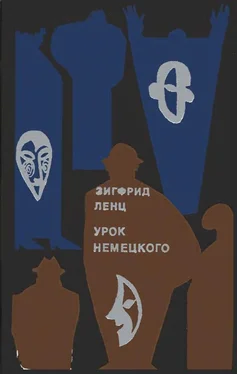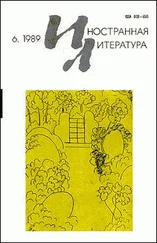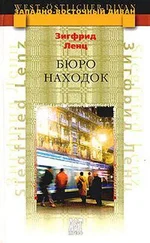Приникнув к окну, отец слышал множество шагов и множество голосов; снова и снова светил он фонариком в ванную, словно нападая из-за угла, и неизменно обманывался в своих надеждах, пока наконец, пристегнув фонарик к груди, не повернул к своему велосипеду.
Одно можно сказать с уверенностью, что к велосипеду он воротился если не с чувством торжества, то во всяком случае, с чувством облегчения и, должно быть, уезжая, избегал глядеть в сторону Блеекенварфа. В кармане у него было вдоволь красного на белом и зеленого на белом, он позаботился о затемнении и удостоверился в том, что и до этого знал или угадывал, а потому мог себе позволить этаким молодчиной съехать с дамбы под соленым брызжущим дождиком, радуясь победе, которую одержал его профессиональный нюх. Возможно, он уже по дороге обдумывал предстоящее донесение, хотя скорее мысли его были всецело заняты любимым блюдом, которое Хильке сейчас готовила на кухне: жареными селедками с картофельным салатом. Во всяком случае, когда он вступил в дом, повесил в шкаф фуражку и накидку и, потирая руки, вошел в дымную кухню, здесь уже собралась вся семья.
— Ну как? Пора садиться?
— Пора.
Я первым сел за стол, пока мать накрывала к ужину, меж тем как у плиты со слезящимися глазами стояла Хильке и растапливала на сковородке потрескивающий, журчащий жир. Он жарко взбрызгивал, он стрелял и пенился бесчисленными пузырями, а Хильке укладывала в клокочущую жидкость обезглавленную, обвалянную в муке рыбу. Отец, войдя, поздоровался и не взял в обиду, что никто ему не ответил. «Добрый вечер всем», — сказал он и потрепал меня по плечу, подошел к плите и одобрительно закивал, глядя, как сестра вылавливает из жира до коричневости зарумяненных рыбок и горкой складывает на тарелку, как, протерев глаза тыльной стороной ладони, она бросает на сковородку новую партию мучнисто-белых селедок и жир снова взбрызгивает и шипит.
Отец подмигнул мне и в ожидании лакомого блюда с преувеличенным восхищением потер живот, потом, расстегнув портупею, сложил ее вместе с пистолетом и планшетом на кухонный шкаф и уселся со мной рядом. Желтые и коричневые, поблескивая жиром, лежали на тарелке жареные селедки с ломкими, съежившимися хвостовыми плавниками, — когда я это вспоминаю в моей хорошо проветриваемой камере, мне и сейчас ударяет в нос едкий запах и к горлу подступает неизбежный кашель.
Берясь за жаренье, Хильке накинула на расшитую в крестьянском духе кофточку с монетами вместо пуговиц закрытый доверху халатик, густые длинные волосы перевязала на затылке лентой, на ногах у нее были шерстяные гольфы, доходящие до колен, на руке позвякивала посеребренная цепочка, которую Адди сверх всякого ожидания прислал ей из Роттердама, куда его погнали с войсковыми частями. Каждый раз, вылавливая из кипящего жира несколько селедок, Хильке, выпятив нижнюю губу, сдувала с лица выбившуюся прядь и, повернувшись, улыбалась нам с капризной гримаской сквозь едкий чад.
Наконец мать поставила на стол блюдо с рыбой и миску со стекловидным картофельным салатом, перемешанным с яблоками; взявшись за руки и беззвучно скандируя, мы пожелали друг другу «при-ят-но-го ап-пе-ти-та» — обряд, которого у нас придерживались, когда Хильке бывала дома, а затем каждый выкопал себе в глиняной миске изрядный ком картофельного салата и набрал с большого блюда селедок. Достаточно было надавить вилкой, чтобы отделить спинное филе, а поддев зубцом вилки позвоночник, вы могли вытащить его целиком. Я без труда обогнал Хильке на две рыбки, а потом удерживал и наращивал это преимущество, но тягаться с отцом было мне не по силам. У ругбюльского полицейского был свой метод расправляться с позвоночником, после чего, подхватив на вилку добрую половину рыбки, он мгновенно, не шипя и не дуя, отправлял ее в рот, и я с волнением наблюдал, как на краях его тарелки множатся рыбьи скелеты. Когда у нас подавалась жареная сельдь, отец напоминал мне Пера Арне Шесселя, самого прожорливого едока, какого мне случалось видеть, хотя, к чести отца будь сказано, он несравненно выразительнее, чем мой брюзгливый дедушка, давал почувствовать то животворное тепло, то душевное равновесие и умилительную полноту чувств, которые вызывает добрая еда. Я не мог угнаться за числом рыбьих скелетов, украшавших тарелку отца, но, что касается Хильке и матери, без труда оставлял их за флагом.
Итак, мы жевали, смаковали, перемалывали и глотали — только держись! Селедочная башня уменьшалась на глазах, в картофельном салате зияли воронки и пещеры и высились утесы, на меня уже наплывали теплая усталость и приятное изнеможение, как вдруг Хильке углядела клочок алой бумаги, торчавший из кармана отцовского мундира. Она вытащила его наружу, вопросительно подержала на ладони над столом и, так как никто не откликнулся, положила рядом со своей тарелкой.
Читать дальше