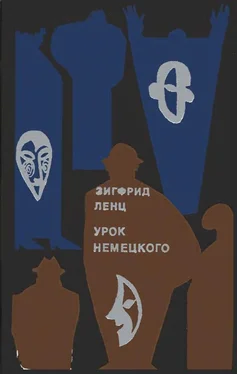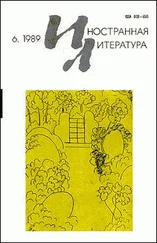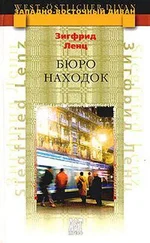— Типичные штафирки, — брезгливо уронил дедушка, — они и на войне остаются штафирками.
— Вот именно, — подкрепил его слова Асмус Асмуссен и находчиво разразился афоризмом: — Большие бури не страшны только оседлым народам.
Это должно было сыграть роль заключительной реплики. Асмус уже вытащил из конверта следующий диапозитив и только-только хотел его вставить, как на арену снова выскочил мой родитель, но не в роли полицейского, который хочет тоже свое слово сказать, — губы его бешено двигались, примериваясь к словам и фразам, он на негнущихся ногах проковылял к докладчику, вперился в него глазами, видевшими грядущие несчастья, и обеспечил вечеру новую кульминацию, заявив:
— Слышь, Асмус, я тебя видел в надувной лодке. Ты не двигался. Твоя рука через борт свесилась в воду. Никого с тобой не было и ничего вокруг.
Больше отцу сказать было нечего, это все, что у него оставалось в запасе, да больше ничего и не требовалось говорить. Докладчик, словно защищаясь, выставил вперед руки, не подпуская его к себе.
— Погоди, сделай милость! — сказал он.
— Но я же видел тебя в надувной лодке, и ты не двигался, — настаивал отец, понизив голос, словно прося прощения, на что Асмус:
— Я бы предложил не прерывать доклад не идущими к делу замечаниями.
Ругбюльский полицейский в отчаянии огляделся. Он что-то искал глазами. Уж не искал ли он другой экран? Может быть, он хотел отбросить на его светлую поверхность картины, проявленные в камер-обскуре своей головы, чтобы убедить всех в важности сделанных им открытий?
— Ладно, — пробормотал он, — нет так нет!
К счастью, отец, как уже сказано, все понимал и усваивал крайне медленно, и это позволяло ему переносить многое — в первую очередь самого себя. Вздохнув, он пожал плечами и сунул в карман платок, куда увязал все свои волнения, и нисколько не удивился, увидав перед собой Хиннерка Тимсена, который — не иначе как по желанию публики — подошел и схватил его за рукав:
— Пошли, Йенс?
Отца не удивило, что все поднялись как один, когда он по среднему проходу проковылял к двери; в сопровождении Хиннерка Тимсена, хозяина местной гостиницы, он с облегчением вышел на воздух с таким видом, будто официальная, малоинтересная часть программы кончилась, и уже у самого выхода произнес:
— Что до меня, Хиннерк, то и я не прочь уйти. — Он ухитрился не заметить молчания рядов, которые ему пришлось миновать, тогда как я долго не решался за ним следовать и, только когда народ стал садиться, отважился побежать по усеянному лужами двору вдогонку за идущей рука об руку парой, впрочем, нет: это Тимсен подхватил отца под руку и в свете ясного вечера увлекал его наверх, к дамбе.
Но не стоит ли сделать отступление и поговорить о Хиннерке Тимсене? Он постоянно носил шарф такой же длины, как цепь всевозможных профессий, в каких он себя перепробовал, потерпев во всех крушение. Этот свисающий до колен шарф был как бы понурым знаменем неудачника. Тимсен побывал в моряках, скототорговцах, фабрикантах мешковины, работал и батраком, скупал старые вещи и распространял выигрышные билеты, а до того, как унаследовать от сестры гостиницу «Горизонт», встречался нам в качестве молочника с тележкой на резиновом ходу. По своему живому характеру пытался он создать из «Горизонта», что называется, первый дом в округе — тут тебе и музыка, тут и он сам в трех лицах: конферансье, комик и фокусник, но все его старания пошли прахом: он не успевал кончить, как посетители обращались в паническое бегство, платили, не допив пиво, убегали от полных тарелок; так его честолюбивые замыслы снова потерпели неудачу, и он давно устремился бы искать счастья на новом поприще, кабы не грянула война.
Хиннерк Тимсен, эта неуемная натура, этот человек с запросами, вел отца вверх, на дамбу. Поглощенные друг другом, они не замечали меня. Отец тяжело переживал свою неудачу, он как будто и не помнил всего, что с ним было, но у него осталось ощущение, будто ой был вынужден сказать что-то не к месту и не ко времени, чем всех против себя восстановил.
— Что, очень я опозорился? — то и дело спрашивал он у собеседника. — Скажи, Хиннерк, очень я осрамился?
И этот искушенный во многих профессиях неудачник только качал головой, а сам с озабоченным видом, а то и с робким восхищением поглядывал на ругбюльского полицейского, очевидно подозревая в нем еще большие способности, чем те, что были явлены в этот памятный вечер.
Однако беспокойство побуждало его торопиться, и среди бессвязных уговоров он все дальше и дальше увлекал и подталкивал отца вперед по гребню дамбы, мимо неторопливо набегающих волн, утративших у бун свою энергию и только лениво переливающихся, точно при замедленной киносъемке. Ни грохота, ни стремительного обратного стока, ни взлизывающих пенных язычков, ни отвесно взмывающих струй меж камней и бетонированных гряд. Высоко над нами плыли эскадрильи самолетов, держа курс на Киль. Йодистый запах моря, соленые ветры — как все это близко и как все готово вернуться, только бы уловить мгновение, только бы ухватить нужное слово; давайте же двигаться ощупью или только прислушиваться, чутко внимать голосу, что время от времени доносится к нам.
Читать дальше