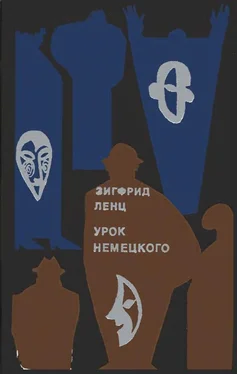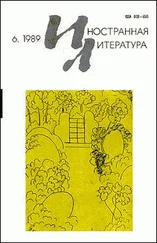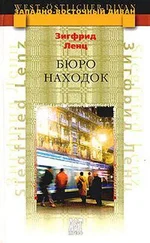— Так на то был приказ из Берлина, я еще позаботился, чтобы в Хузум их доставили в отличной упаковке, а что с ними потом стало, не моя печаль.
— Их отослали в Берлин, — отвечал почтальон, — там половину сожгли, а остальные продали за границу, такие ходят слухи.
— Чего не знаю, того не знаю, — возразил отец, — про это я ничего не слышал, с меня за то и спросу нет, я отвечаю только за Ругбюль.
— Но отчего ему запретили писать картины и почему конфисковали все последние работы, уж это ты должен знать.
— В постановлении сказано, что он чужд народному духу и опасен для государства, что называется нежелательный элемент, короче сказать, как есть вырожденец, если ты понимаешь, что это значит.
— А все же некоторые за тебя беспокоятся, особенно двое, они, видишь, не забыли, что это он вытащил тебя из глюзерупского портового бассейна.
— Когда-нибудь надо же расквитаться, — сказал отец, — и мы теперь квиты. Так что возьми это в расчет, да и другим скажи, кто слишком много треплется. Оба мы из Глюзерупа, я и он, а с прошлым у нас покончено, и теперь от него зависит, что из этого произойдет.
— А все-таки оставь его лучше в покое, Йенс, — тянул свое Окко Бродерсен, и, в то время как отец на него воззрился, словно отказываясь его понять, почтальон взял часы, поднес их к уху, быстро подвел и опустил в карман. Он проглотил остатки холодного чая и с шумом встал. Он, видимо, торопился, возможно, его тревожило, что он наговорил лишнего; я помог ему передвинуть сумку на место. Простился он с отцом как-то мимоходом и вышел, не дожидаясь ответа, впрочем, ругбюльского полицейского это скоропалительное прощание, казалось, не раздосадовало и не огорчило, он не вскочил с места и не стал грозиться и даже вида такого не подал, а продолжал сидеть и о чем-то размышлять на свой суховатый, медлительный лад.
До чего же выразительно он умел размышлять! Хоть смотрел он на раковину и на медленно подтекающий потускневший медный кран, взгляд его был в известной мере устремлен внутрь, не слышно было дыхания, да и пульс, казалось, замедлился, и туловище как будто сникло, между тем как носки его башмаков неравномерно покачивались и только руки напряглись, они сжимали и тискали друг друга. Когда отец размышлял, ему не мешало, если кто-нибудь вертелся в поле его зрения, если при нем разговаривали или работали; он нисколько на это не сердился.
Я скосил глаза на мельницу, где меня ждали. Хлеб все больше оттягивал мне карман, его наличие становилось все заметнее. На подоконнике лежал мой самодельный голубой флажок, я взял его в руку и с минуту водил им перед носом отца. Движение воздуха, а может быть, и назойливость сигнала заставили его поднять голову, и я сразу же почувствовал, что он и меня включил в круг своих размышлений. Он зажег свою носогрейку. Он ощупал ячмень, задумавший сесть у него на глазу. А затем стал попыхивать трубкой, слегка причмокивая, и принял многозначительную позу. Я ненавижу это барственное посиживание, я боюсь этого знаменательного молчания, ненавижу это торжественное немногословие, этот обращенный в пространство взгляд и не поддающиеся описанию жесты, я страшусь, страшусь нашего обыкновения погружаться в себя, избегая слов.
Ругбюльский полицейский сквозь густой дым устремил на стену неподвижный взгляд — затуманенный ясновидящий взгляд, я бы не удивился, если бы на этом месте выступило пятно или вывалился кирпич.
Я хотел спросить разрешения уйти из дому, но не решался — не решался с ним заговорить, привлечь к себе его взгляд из глубины веков, а потому принялся молча выписывать флажком по комнате восьмерки и чуть было не сбросил с полки всю батарею банок саго-манка-рис-мука-перловка, как вдруг он схватил меня сзади, притянул к себе и сказал:
— Так не забудь, мы работаем на пару, как только что заметишь, сейчас же сигнализируй!
— Флажком? — спросил я, а он:
— Как угодно, только сразу же доложи. С нами вдвоем, Зигги, никто не сладит.
Это я уже от него слышал.
— Можно мне уйти? — поспешил я спросить.
— Ступай себе, — сказал он, — хотя бы и в Блеекенварф, но только не зевай. — Он хотел еще что-то добавить, но в конторе зазвонил телефон, он вскочил, испуганно положил трубку на блюдце, поправил волосы, разделенные четким пробором, и уже на ходу застегнул мундир; его донесение: «Ругбюльский полицейский пост, у телефона Йепсен» — я услышал уже на крыльце.
Я сбежал с крыльца, выбрался на кирпичную дорожку, никем не замеченный добежал до шлюза — во всяком случае, никто меня не окликнул, — присел на корточки и стал следить для верности за тем, как через шлюзные ворота стекает мутная вода, а там, дав крюку, вышел к дамбе и, дав другого крюку, вышел к камышовым зарослям, а затем уже бегом назад, к мельнице. Камышовые заросли и мельничный пруд я на этот раз миновал и, зайдя к мельнице с тыла, обогнул ее под прикрытием насыпного холма и надолго задержался у провалившейся платформы, покамест не убедился, что двое мужчин на лугу против кладбища в самом деле заняты дренажными работами; потом сполз вниз, к входу, и отворил дверь на лестницу.
Читать дальше