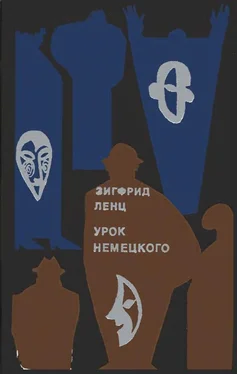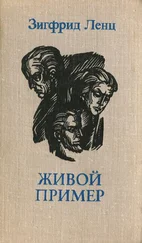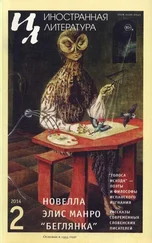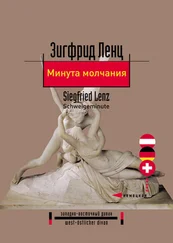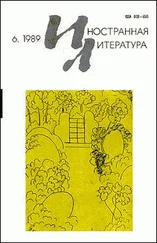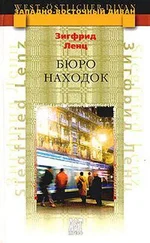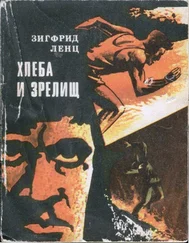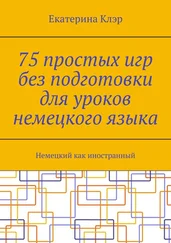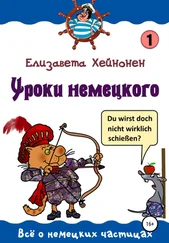Итак, уже со стороны этой, достаточно злободневной проблемы современности образ ругбюльского полицейского представляет, как видим, немалый интерес. И уже одного этого было бы, конечно, вполне достаточно, чтобы оправдать внимание Зигфрида Ленца к психологии своего безотказного исполнителя приказов.
Однако есть в художническом исследовании Зигфрида Ленца и еще один, не менее важный и общезначимый проблемный аспект.
4
Нетрудно понять, что, выбрав для роли преследователя художника Нансена человека, считающего безусловное выполнение приказов своим личным делом, своим Долгом, Зигфрид Ленц создал ситуацию столкновения двух противоположных, взаимоисключающих отношений к жизни, двух полярных человеческих «правд». Правда художника — с его независимостью, духовной свободой, с его «личным порядком», определения которого он никому не уступит — начисто зачеркивает ругбюльского полицейского с его правдой безоговорочного подчинения чужой воле — воле «законной» власти. Равно как и правда Йенса Оле Йепсена требует устранения правды художника.
Иными словами, перед нами ситуация столкновения двух правд, формально — «на равных».
Но на равных ли — по существу? Вот вопрос, который неизбежно возникает при всякой сшибке такого рода. Вопрос, как нетрудно понять, ключевой.
Именно таким является он и для Ленца в этом романе. В ответе на него заключен главный нравственный смысл романа, его главный человеческий «урок».
Для очень многих и многих поклонников новейшего этического релятивизма, весьма распространенного ныне на Западе, ситуация, подобная той, которую показывает нам Ленц, послужила бы всего лишь иллюстрацией неизбежной, как они считают, множественности человеческих «правд», их принципиальной несоизмеримости друг с другом, их принципиального равноправия.
Зигфрид Ленц — и в этом мудрая зрелость и подлинный гуманизм его позиции — отстаивает нечто прямо противоположное. И не только эмоционально, различием своего отношения к ругбюльскому постовому, с одной стороны, и к художнику — с другой. Достоинство позиции Зигфрида Ленца в этом романе в том, что он художественно доказывает безусловную общезначимость гуманистических критериев жизненной ориентации человека в мире. В том числе — и на примере самого Йенса Оле Йепсена, находящегося как будто вне всякой власти этих критериев. Здесь-то и обнаруживает свой принципиальный, свой, так сказать, методологический художественный смысл та тема «радостей исполненного долга», исследование которой Зигги сделал — как будто по воле случая, но, как выясняется, весьма проницательно, — ключевым принципом своего мемуарного урока.
Действительно, если все человеческие «правды» равноправны, если они могут дать человеку ощущение полноты и «нормальности» своего существования, то, очевидно, и служение ругбюльского постового своему долгу должно обладать той же человеческой наполненностью. Но как же быть тогда с «радостями», которые сопутствуют исполненному долгу? Где они?
Злобное превосходство и болезненное удовлетворение на лице ругбюльского полицейского в ту минуту, когда он арестовывает-таки художника? Или, может быть, те чувства, которые раздирают Йенса Оле Йепсена, когда он оказывается перед необходимостью либо изменить Долгу, либо выдать Клааса властям? Читатель помнит эти сцены, они написаны с подлинным драматизмом и психологической точностью — даже этот неистовый ревнитель долга явно не выдерживает, готов вот-вот дрогнуть, и только тупая жестокость жены, еще более упрямой в своем фанатизме, заставляет его в конце концов остаться верным своему фантому…
Речь идет, конечно, не о радостях в буквальном смысле, в их непосредственно эмоциональном выражении. Радости здесь — как это и вообще часто у Ленца — символический, а отчасти и иронический псевдоним более широкого и общего круга состояний, связанных с нравственным самоощущением человека — прежде всего с неразрушенной цельностью и полнотой его нравственного здоровья.
Но о чем же и в этом смысле можно говорить, если прямым и необратимым следствием добросовестного исполнения долга, оказывается как раз все большее и большее разрушение личности ругбюльского полицейского, разрыв всех человеческих связей с окружающим миром, даже с собственными детьми, погружение в пучину злобной ненависти, взвинченно-исступленного, из одного уже только упрямого желания доказать свою правоту, служения идолу долга? О чем говорить, если даже пресловутая эта верность долгу не может уже существовать в нем иначе, как став его «пунктиком», его «болезнью, если не чем похуже», как говорит Зигги? Если ему остается только совсем уже превратиться в «психа», чтобы «в бредовом состоянии выполнять свой треклятый долг»?..
Читать дальше