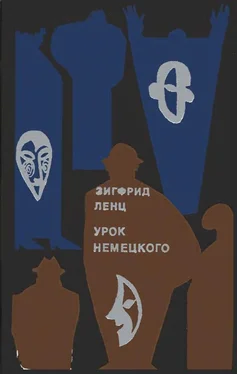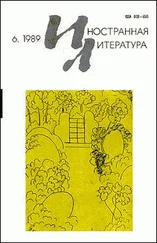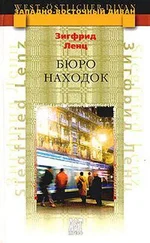Назад. Я побрел к себе назад и нашел надзирательскую пустой, очевидно, Йозвиг обедал. Ящики его письменного стола не содержали ничего нового; все тот же съежившийся и окончательно окаменевший бутерброд с сыром и по-прежнему в конверте старые деньги, очевидно, для обмена. Новостью оказалась примерно двадцатилетняя макрель; нежно фосфоресцируя, она исподволь разлагалась и наполняла стеклянную конуру такой густой вонью, к которой трудно было привыкнуть даже при самых нежных чувствах к нашему любимому надзирателю.
Да не забыть бы письмо, начатое письмо, к моему удивлению, адресованное мне и начинающееся столь характерным для Йозвига образом: «Милый Зигги, скоро ты покинешь наш остров, уедешь туда, где ждет тебя жизнь. И очевидно, скоро нас забудешь. Нам, однако, не так легко с тобой расстаться, и не потому, что мы не сочувствуем твоей удаче, а потому, что прикипели к тебе сердцем. Но такова жизнь. Я всегда говорю, что наша судьба на этом острове похожа на судьбу учителей: не успеешь привязаться к человеку, как он тебя покидает».
Больше Йозвигу покамест ничего не пришло на ум. Стало быть, и ему известно мое предстоящее освобождение, видно, это дело решенное. И видно, работу мою хочешь не хочешь придется сдать. Прочтет ли ее Гимпель? Прочтет ли ее Корбюн и поставит ли мне отметку?
А дальше? Перекочуют ли мои тетради на полку, чтобы там умереть незаметной архивной смертью? Или их выбросят на мусорную свалку? Или Корбюн отдаст их внуку, чтобы карапуз не портил книги цветными карандашами? А может быть, их передадут дальше, в органы надзора за несовершеннолетними? Но что мне до того. Мне больше нечего добавить к написанному. У меня остаются только вопросы, на которые никто мне не ответит. Даже художник, даже он.
На сей раз Йозвиг подошел тихонько и внезапно вырос за стеклянной дверью, он постучал, ухмыльнулся и поднял голову к переговорному оконцу.
— Прошу вернуться в камеру два под арест! — Я вышел к нему в коридор. — А ведь, в сущности, было бы неплохо, Зигги, подумай хорошенько, чтобы тебе поступить сюда в надзиратели? Наденешь форму, получишь связку ключей, пройдешь специальное обучение. Тебе будут повиноваться. Впереди обеспеченная старость. При очередном пополнении наших рядов у тебя неплохие шансы. Обдумай это!
— Лучше не надо! — отвечал я и, перекинув связку через плечо, без дальнейших слов направился впереди него к своей камере. Он отпер дверь. Сперва дал мне войти, а потом последовал за мной. Йозвиг достал себе табурет, а я подошел к окну и увидел на причальном понтоне Гимпеля; наш директор изо всех сил махал баркасам, которые, перемалывая воду, шли наискось вверх по течению.
— Значит, твой срок истекает?
— Какой срок?
— Твой срок на острове?
— На то похоже.
— И ты небось рад?
— Чему рад?
— Вырваться отсюда, уехать и там начать что-то новое?
— А что, собственно?
— Может, что-нибудь такое, что будешь делать совсем один, сам себе хозяин?
— Такого не бывает, во всякое хлебово, которое ты замесил, кто-то уже успел наплевать. — Тут Йозвиг, шаркая, подошел к окну и стал со мной рядом, я чувствовал, ему хочется сказать мне что-то легкое, утешительное, даже умиротворяющее, во он так ничего и не нашел, единственное, что пришло ему в голову, — это посоветовать, раз уж мне на прощание положено заказное блюдо, просить камбалу по-финкенвердерски, на сале, он бы на моем месте это потребовал. Я обещал помнить его совет. Простясь со мной робким прикосновением, он оставил меня одного. Как осторожно, как участливо он умел при желании запереть камеру и с какой деликатностью удалиться, когда этого хотел.
Уже пять дней, как штрафная работа окончена, завтра я обязан ее сдать. Обязан? Дело не в результатах, сказал как-то Гимпель, а в твоем отношении и упорстве, которые приводят к желаемым результатам. Но поскольку он удовлетворен моим упорством, на что ему сдались мои тетради? Я мог бы спокойно подарить их Хильке, или Вольфгангу Макенроту, или безучастно текущей Эльбе, мог бы бросить в костер или после моего освобождения продать на вес как макулатуру. Возможности? Есть еще возможности. Только удастся ли их осуществить?
Окруженный знакомыми лицами, осаждаемый воспоминаниями, перенасыщенный событиями в моем родном краю, постигнув на горьком опыте, что время ничего, ровно ничего не излечивает, я знаю, что мне делать, что я и сделаю завтра утром. Потерплю крушение на Ругбюле? Пожалуй, это можно и так назвать.
Читать дальше