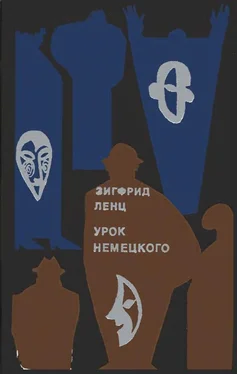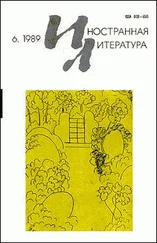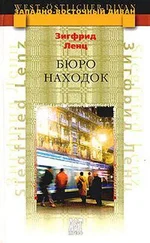И вот с одной из коек было сорвано покрывало, обнажившее застиранный брезент, а под брезентом — соломенную подстилку. Я сел на приготовленное мне ложе, Макс Людвиг Нансен бережно поднял и уложил мои ноги, укрыл меня и нарочито строго на меня поглядел.
— А теперь ложись безо всяких, нравится это тебе или нет. Спокойно лежать и не двигаться до моего возвращения. Слышишь? Я мигом обернусь.
— А как же свет? Свет ты мне оставишь? — Он кивнул.
— Свет будет гореть, чтобы ты без меня не сбежал.
Он взбил мне подушку в полотняной наволочке, и я снова улегся, чувствуя себя под защитой его заботы и ласковых слов. Уходил он с весьма серьезным видом, и я прислушался к его шагам, нерешительно направлявшимся к порогу; резкий порыв ветра ворвался в дверь и произвел переполох среди беспорядочно накиданных листочков на письменном столе, несколько листков спорхнули на пол. Я не видел художника, но почувствовал, как он замедлил шаг у окна и еще раз на меня поглядел, до того как направился к дому. Затем…
Мне надо как следует подумать, восстановить то, что произошло затем, потому что это произошло со мной впервые, я ведь собирался спокойно ждать и лежал дрожа под одеялом, до этой минуты мне удавалось почти все себе объяснить путем сравнений. Итак, света хватало, обстановка знакомая, время, каким я располагал, ограничено — я примерно представлял, когда художник вернется с моим питьем. Я не чувствовал себя здесь в гостях. Пока что все ясно: я вижу, как лежу на койке, укрытый до подбородка коричневым одеялом, окруженный знакомыми картинами. Но где же переход, мне нужен переход — или это произошло со мной без всякого перехода?
Вот, пожалуй, с чего началось: я заметил, что кто-то на меня смотрит и, пожалуй, даже узнает меня. Тут были словенцы, они сидели за круглым столом, с довольными, слегка остекленевшими от настойки глазами. Рыночные торговцы вперились в пожилую женщину, равнодушно проходившую мимо, а согнувшиеся под ветром крестьяне торопились убирать сено перед наступлением грозы. А танцующие пляжники? Пророки? Они были всецело заняты собой.
Должно быть, вся суть заключалась в двух менялах с зеленовато-золотистыми руками и похожими на маски лицами: они смотрели на меня, они больше не перемигивались украдкой от сидевшего перед ними согбенного человека, чье отчаяние их не трогало, чье несчастье было их удачей. Мне чудилось, что они уставились на меня, и в их льдисто-серых глазах не было обычного выражения превосходства. Я не мог этого объяснить, да и не желал никаких объяснений, картина как-то стянулась, я ощущал боль в висках, их сдавило тисками — что-то светящееся, колеблясь, надвигалось на картину из ее глубины; менялы, казалось, затаили дыхание; я обеими руками схватился за одеяло; я уже отчетливо видел, как маленькое открытое пламя надвигается о заднего плана, приближаясь неуклонно, необратимо. Что перевесило мой страх? Ошеломление? Слабость? Испуг? Какое-то время, несмотря на страх, я лежал и всматривался, я помню только одно: картина. Маленькое открытое пламя. И страх. Вот, пожалуй, и все. И тут я недолго думая скинул одеяло и вскочил, что-то заставило меня сорвать со стены картину, повернуть тыльной стороной, отогнуть картонку и вынуть из рамы менял. Куда бы их лучше спрятать? Под подушку? В шкаф?
Я вытащил рубашку из штанов и обернул менял вокруг тела, как когда-то «Наводчика туч»; потом одернул рубашку и растянулся на своем ложе, решив никому ничего не рассказывать — даже художнику. Я только хотел отнести картину в безопасное место, я еще сам не знал куда, лишь бы вон отсюда, где она Могла в любую минуту загореться. Как приятно она холодит кожу! Как спокойно ей там лежится, думал я и закрыл глаза, чтобы не видеть других картин. Не лучше ли рассказать? А вдруг он не поверит? Или убежать? У меня и в мыслях не было оставить картину себе, да и в дальнейшем я вовсе не собирался завладеть картинами, которые мне доводилось уносить в надежное место, видя, что им угрожает опасность. Я забирал их только на временное хранение. Я не мог допустить, чтобы они сгорели по случайному недосмотру. Я обязан был что-то сделать. Обязан был прислушаться к тому, что диктовал мне страх. Ошибка моя заключалась лишь в том, что мне слишком рано открывалась опасность, и я слишком рано уносил картину в сохранное место.
Я не убежал. Я лежал и дожидался, пока художник вернется. Он с трудом закрыл дверь. Присел на край моего ложа.
— На, пей! — Я пил и поглядывал на него через край стакана. Не изменилось ли что в его лице, в его обращении? Для того ли только он уходил, чтобы принести мне попить? — Что с тобой, Зигги? — спросил художник. — Здесь тебе нечего бояться. Да не жар ли у тебя? Отдохни немного, и я отведу тебя домой.
Читать дальше