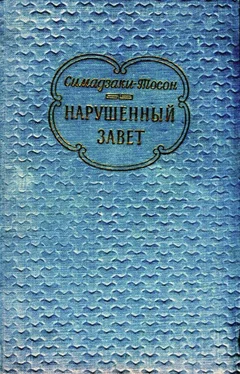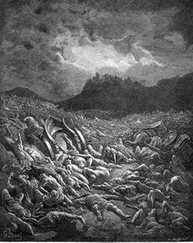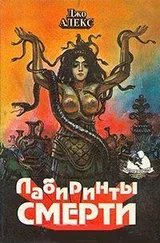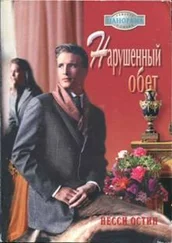* * *
«Нарушенный завет» — роман об эта. Кто такие эта?
Япония, которая в разных областях жизни являет примеры удивительно стойких пережитков минувших веков, сохранила и касту эта — социальное явление, корни которого восходят к дофеодальной эпохе, ранее VIII века. Пути образования этой касты не вполне ясны, но несомненно, что среди предшественников эта были некоторые категории рабов, в том числе из иноплеменников. Однако, как будет показано ниже, это далеко не единственны)! источник её формирования, поэтому считать современных эта представителями другой расы, о чем в своем романе пишет Тосон, нет достаточных оснований. Начиная уже с этого раннего времени и на протяжении последующих веков происходило обособление ремесленников тех специальностей, которые и доныне остались целиком в руках эта. Таковы прежде всего — убой скота и выделка кож; затем плетение соломенных сандалий, починка деревянной обуви (гэта); уборщики нечистот, комедианты, проститутки также входили в ряды людей, впоследствии составивших эту касту. По-видимому, многие из этих «грязных» профессий считались нечистыми и, по ритуальным соображениям, усиливали презрение к категории населения, которая и без того, в силу иноплеменного происхождения или рабского положения, стояла на низшей степени социальной лестницы. В эпоху позднего феодализма(начиная с XVII века) возник и новый источник пополнения этой касты, который отнюдь не мог поднять ее престиж, — разжалование из других сословий как наказание за преступления. Уже ранее этойэпохи фактически произошло и территориальное обособление эта особых поселениях и бытовое с установившимися нормами общежития. Феодализму осталось только закрепить ее существование юридически в качестве касты бесправной и отверженной в полном смысле этого слова. Некоторые её категории («эта» в узком смысле именовались те, которые занимались выделкой кож) получили официальное наименование «хинин», что буквально значит: «не человек ».
Переворот Мэйдзи коснулся и касты эта: декретом 1871 года эта каста была юридически ликвидирована, и ее члены были причислены к третьему сословию «хэймин», получив и право именоваться так, однако с приставкой «новый» — «синхэймин». Им были присвоены и все гражданские права — ношения фамилии, повсеместного проживания, отбывания воинской повинности и пр. и пр. Самое слово «эта» было изъято из употребления. В современных японских толковых словарях этого слова нет.
Но получила ли проблема эта своё разрешение но существу?
Отнюдь нет.
В XX веке, как и в XVII, каста эта жива так же, как не умерло фактически само это слово. Если эта огородник (огородничество распространено среди эта), он должен продавать свой товар дешевле, чем другие, но и это не всегда спасает его от полного бойкота. Если он путешествует, его не пускают ни в одну гостиницу. Если он в армии, никто из товарищей-солдат не желает с ним общаться. Если он женится, скрыв свое происхождение, его жена может потребовать развода, а если с ним вступят в брак сознательно, то не только с его женой, но и с ее родственниками никто не захочет иметь дела. На юге и на севере Японии, в столице и в деревне и даже дальше, в эмиграции, на тихоокеанских островах и в Северной Америке — всюду, где только есть японцы, эта напомнят, что он — «нечистый».
Как существовать в таких условиях? Говоря словами героя «Нарушенного завета» Усимацу, «для эта весь секрет возможности выйти в люди и существовать, единственная надежда, единственный способ — это скрывать свое происхождение». Но этот исход возможен лишь для одиночек, да и для них он нередко оканчивается крахом. И собственно весь роман говорит о том, что скрывать свое происхождение — недостойно. Эта, не пожелавшие или не могущие этого сделать, всюду преследуемые, отовсюду гонимые, — бегут. Но куда? В единственное место, где они могут жить спокойно, потому что они среди своих, — в «особые поселения».
Эти «особые поселения» — «токусю бураку» — существуют в XIX веке, как и в XVII. В настоящее время число их превышает пять тысяч. Самих же эта насчитывается около трех миллионов человек.
И в наши дни, как и в средние века, эта обособлены профессионально. За исключением некоторой части (на юго-западе), занимающейся земледелием, подавляющее большинство ограничивается профессиями, которые сохранились за эта со времен средневековья. Но и это становится все трудней. Мелкие кустарные промыслы капитализируются все больше и больше. Кожевенное дело переходит на фабрики, плетенье — в промышленные артели, на крупные бойни берут любых наемных рабочих. Прежние занятия эта переходят в другие руки, к новым эта не допускают. Таким образом, экономически эта обречены на нищету.
Читать дальше