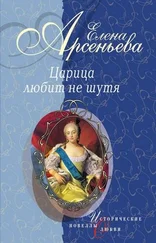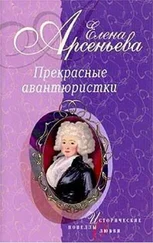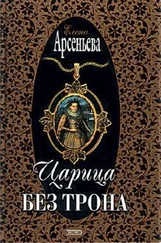Вскоре после завтрака у нее вдруг закружилась голова, а к полудню и вовсе сделалось дурно. Лицо побелело, по нему пробегали судороги. Елена лишилась сознания, ее била дрожь. Набежали придворные лекари, и стоило им увидеть почерневшие, запекшиеся губы великой княгини, как они тут же с ужасом переглянулись.
Обоим пришла в голову одна и та же мысль. Княгиня Елена умирала у них на глазах – и умирала она от яда…
Едва миновал час после полудня, как все было кончено. Она даже глаз не открыла, ее даже не успели причастить, исповедовать. Она даже не простилась с теми, кого любила, кто любил ее больше жизни!
Князь Иван, его сестра и маленький княжич стояли у одра той, которая была для них светом жизни, – и никак не могли осознать свершившееся. Кто‑нибудь из них то и дело начинал кричать криком, заходился слезами – но тут же и умолкал. Ибо горе было слишком огромно, чтобы выразить его в обыденных причитаниях или слезах.
Собрались бояре. Молча толпились у дверей комнаты, где обмывали тело правительницы, равнодушно поглядывали на бледную, дрожащую Аграфену Челяднину, которая силилась успокоить рыдающего Иванушку, злорадно косились на помертвелого, недвижимого Ивана Телепнева…
Прошел слух, что тело‑де правительницы чернеет на глазах, набухает мертвой кровью. Яд – теперь никто не сомневался в этом! Но сейчас те, кому следовало искать отравителя, еще не пришли в себя, а другим было все равно. Они мысленно благословляли человека, который сделал то, на что не решались другие, хотя втихомолку желали этого. Боярская Дума не могла простить Елене, что та отвергла ее.
Князь Василий Шуйский, который больше всех мог бы порассказать о том, что нынче приключилось с княгиней, исчез из дворца. Впрочем, его никто и не искал: не до него было. Елену пришлось похоронить нынче же вечером.
Погребение состоялось в Вознесенском девичьем монастыре.
Неделю царило безвластие в стране. Иван Овчина–Телепнев был так потрясен случившимся, что, чудилось, и сам умер. Из него словно бы стержень жизни вынули! Все казалось бессмысленным, кроме слез, которые он проливал с княжичем. Эти двое – мужчина и ребенок – цеплялись друг за друга, словно оба были малыми детьми. Аграфена, до которой доходили опасные шепотки о боярских настроениях, напрасно пыталась достучаться до брата, пробудить в нем страх если не за свою собственную жизнь, то хотя бы за жизнь сына, однако Иван Федорович ничего не понимал. А когда он начал наконец приходить в себя, было уже поздно: власть в стране захватил тот, кому она была доверена великим князем Василием Ивановичем.
Василий Шуйский объявил себя правителем и опекуном малолетнего князя Ивана. Овчина–Оболенский был закован в железо на глазах мальчика, который напрасно пытался вырвать его из рук стражников. Так собирался Шуйский охранять его детство и исполнять его волю! Аграфену Челяднину на простой телеге свезли в Каргопольский монастырь и постригли в монахини. Ивана Телепнева уморили в темнице голодом… обычная участь жертв в то время.
А в стране теперь правили Василий и Иван Шуйские. Впереди у них было несколько лет, пока не повзрослеет Иванушка. Повзрослеет – и расправится с этими предателями и убийцами. Какая жалость, что не вывел племя Шуйских – предателей по душе, по крови! – под корень. Еще не раз возникнут они на самых кровавых страницах истории России, и в руках у них будет непременно чаша с ядом либо другое орудие предательства и убийства.
А впрочем… ни Елену, ни ее возлюбленного сокола ясного все равно уже было не воскресить!
Тиран–подкаблучник
(император Павел I и его фаворитки)
— Господи Боже! – подумал дежурный. – Да ведь его мало не убило! Вот смех был бы, а? Император убит каблучком!»
И он, стиснув губы, вылупил во всю мочь глаза, чтобы никто не мог заметить рвущийся изнутри хохот…
Дело приключилось и впрямь смеху подобное. Некий молодой полковник был в тот вечер дежурным офицером в Гатчинском дворце. Около офицерской дежурной комнаты была обширная прихожая, в которой стоял караул. Вдруг раздался крик часового:
— На караул!
Это означало, что прибыл император.
Дежурный выбежал из своей комнаты и едва успел выхватить шпагу для салюта, а солдаты – вскинуть на плечо ружья, как распахнулась дверь и в прихожую поспешно вошел его величество государь Павел Петрович. Он был в шелковых чулках и башмаках, при шляпе и шпаге – видимо, только что прибыл с бала. Император неспешно проследовал в комнату, которой начинались покои, отведенные в Гатчинском дворце Катерине Ивановне Нелидовой, давней фаворитке его величества. В ту же секунду раздался какой‑то странный звук, который полковник расценил бы как яростный вопль, кабы почтительность к августейшей персоне позволила ему это сделать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу