Он шел по проспекту Навои, отмечая по пути места, с которыми были связаны невинные и всякие другие шалости студенческих времен. Вон в том доме проживала славная девушка Нина, а вот переулок, где еще и сейчас, наверное, живет его бывший знакомый, сын влиятельных родителей, подаривших своему дитяти многокомнатный дом, который немедленно был обращен в скромный вертеп юношеских развлечений для избранных. Хорошие были времена!
Камилл остановился на мосту через реку Анхор. Там внизу располагался большой тенистый парк, который когда-то в его компании назывался «Парком Столетия Парижской Коммуны». Интересно, что ни одна из множества девушек, которых друзья водили в этот парк, не усомнилась в достоверности такой юбилейной даты. Впрочем, неизвестно, кто при этом больше плутовал, - притворщицы-девицы или наивные парни? В парке-то в ночные часы можно было заниматься обоюдосладкими упражнениями!
Камилл ностальгически вздохнул, Что ж, блажен, кто вовремя созрел. Но почему-то захотелось вернуться в пору зеленой юности. Кстати, и сегодня еще название Парка не дотягивало до юбилейной даты. Когда она была, эта коммуна? В 1871-ом? Значит, через четыре года вполне корректным будет дать этому парку придуманное студентами наименование.
Он шел дальше и с удовольствием ловил взгляды встречных девушек. «Осторожнее, приятель, среди этих юных красавиц могут оказаться твои незаконнорожденные дочери!», шутливо предупредил он сам себя. Впрочем, действительно, с полной уверенностью исключать такую возможность он бы не стал…
На поздние свидания спешили,
Чтоб юных тел томленье утолить,
Дочурки дев, которых мы любили,
Иль, может быть, хотели полюбить.
Вот и площадь с фонтаном перед великолепным зданием Театра Оперы. Камилл оглянулся на трехэтажную гостиницу, мимо которой ему надо было пройти к фонтану, и опять грустно сжалось сердце. Здесь, в конторе «Интуриста», работала переводчицей его большая любовь… Теперь она в Израиле…
Посидев на обдаваемом брызгами фонтанных струй граните и полюбовавшись зданием Театра, Камилл прошелся по площади и заметил окруженного зеваками художника, сидящего на складном табурете перед полотном, прислоненным к водруженной на гранитный парапет тяжелой каменной мусорной урне. Холст был большой, метр на полтора, наверное. Художник писал картину не торопясь, тщательно ставя мазок к мазку. Мазки были маленькие, не больше зернышка риса. Узбекский парнишка лет четырнадцати сидел за спиной художника на гранитной балюстраде, ревниво не подпуская к художнику сильно любопытствующих и обругивая особенно рьяных критиков, которым явно не нравилась манера письма неизвестно откуда появившегося живописца.
Живописец появился здесь недели две тому назад. Сперва его нынешний опекун был среди критиканствующих «знатоков» – то, что проявлялось на полотне, никак не походило на привычные парадные изображения прелестей хлебного города Ташкента. Поэтому насмотревшийся на фотографически точные картины городов и весей, развешиваемые в различных учреждениях, на плакатные изображения счастливой жизни советского народа в кинотеатрах и других общественных местах, мальчишка был насмешлив, почти издевался. Потом, когда из красочных мазков «а ля Сёра» стал вырисовываться действительно очень профессионально написанный знойный куб огромного здания, в юном городском шалопае стал просыпаться художественный вкус, и теперь он заворожено следил за развитием событий на холсте.
Картина писалась медленно. На холсте из скупых тонких мазков (художник экономил краску) появлялся одетый в марево жаркого августовского дня Театр. Сам художник был в мятых полотняных штанах, в старой " ковбойке ", - так почему-то называлась рубашка из " шотландки ". Он был не разговорчив, особенно немногословен он был с благополучного вида зеваками, из-за его плеча глядевшими на создаваемую картину и бросающими реплики, свидетельствующие об их весьма поверхностном знакомстве с живописью, и то только по полотнам Шишкина или Герасимова. Но с богемного вида зрителями художник иногда обменивался парой фраз. С мальчишкой же, с тем самым, художник подружился, точнее - узбечонок уже души не чаял и в создаваемом шедевре, и в его авторе. Он отгонял "знатоков", близко подлезших под руку и позволяющих себе критиковать манеру художника угрозами:
- Кет, джаляб, йокал!
Самоотверженность, с которой узбечонок целые дни проводил рядом со своим кумиром, и его готовность быть ему полезным, была достойна удивления.
Читать дальше




![Анастасия Лик - Нити судеб [СИ]](/books/189370/anastasiya-lik-niti-sudeb-si-thumb.webp)


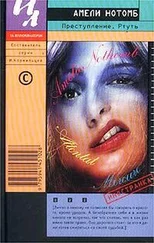

![Мика Ртуть - Зови меня Смерть [СИ]](/books/390893/mika-rtut-zovi-menya-smert-si-thumb.webp)


